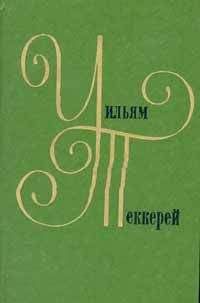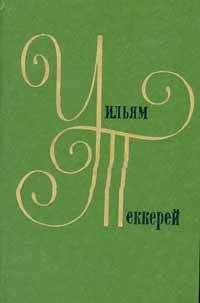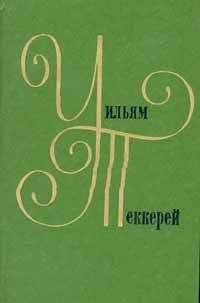Уильям Теккерей - Ньюкомы, жизнеописание одной весьма почтенной семьи, составленное Артуром Пенденнисом, эсквайром (книга 1)
— Рассматриваете мою Боадисею, мистер Сми? — спрашивает Гэндиш. И досталось бы ему у Серых Монахов за такое произношение!
— А?.. Да-да, — отвечает мистер Сми; он останавливается перед картиной и всматривается в нее эдак, из-под ладони, точно ищет, куда бы лучше ударить эту Боадицею.
— Я написал ее, когда вы были еще юношей, Сми, за четыре года до вашего избрания в Академию. В свое время имела успех — в картине немало удач, — рассказывал Гэндиш. — Впрочем, настоящей цены мне за нее не дали, вот она и висит здесь. Не ценят у нас высокого искусства, полковник, грустно, но факт.
— И верно, что "высокого"! — шепчет язвительный Сми. — Как-никак четырнадцать футов высоты. — И тут же добавляет во всеуслышанье: — В картине много удач, как вы говорите, Гзндиш. Например, ракурс, в котором подана эта рука, — блестяще!.. И красная драпировка, собранная в правом углу, выполнена очень искусно!
— Да, высокое искусство!.. Это вам, Сми, не портреты писать, — говорит Гэндиш. — Одни натурщики для древних бриттов обошлись мне в тридцать фунтов, а я только начинал выходить в люди и незадолго перед тем женился на моей Бетси. Узнаете Боадицею, полковник? В римском шлеме, панцире и с древним копьем в руке. Все подлинное, сэр, все писано по образцам самой что ни на есть настоящей античности.
— Все, кроме самой Боадицеи. Она остается вечно юной, — ответствовал мой родитель и, помахивая в такт тростью, прочел несколько строк из Купера:
Когда исходит кровью королева
Британии — воительница наша,
Исхлестанная римскими плетями…
— Прелесть что за стихи!.. — восклицает Клайв. — Я, помнится, когда-то переводил их алкеевой строфой. — И, весело рассмеявшись, он вернулся к своему рассказу.
— Ах, надо непременно записать эти стихи в альбом! — вскричала одна из девиц. — Это вашего сочинения, полковник?
А Гэндиш — тот ведь интересуется лишь собственными творениями — не унимался:
— Моя старшая дочь, эскиз портрета, выставлявшегося в тысяча восемьсот шестнадцатом году.
— И вовсе не в шестнадцатом, папа!.. — возражает мисс Гэндиш. А она, надо сказать, совсем не птенчик на вид.
— Вызвал восторг, — продолжал Гэндиш, не обращая ни на что внимания. — Могу показать, что тогда писали о нем в газетах; особенно нахваливали его "Морнинг кроникл" и "Экземинер". Мой сын в образе младенца Геркулеса, удушающего змея, над фортепьяно. Первый вариант моей картины "Non Hangli, said Hangeli" [49].
— Угадываю, кто послужил моделью для ангелов, — вмешался мой батюшка. Каков старик-то! Но это он чересчур!.. Впрочем, Гэндиш слушал его не больше, чем мистера Сми, и продолжал умащать себя маслом, как, я читал, то в обычае у готтентотов.
— Я сам тридцати трех лет от роду! — объявил он, указывая на портрет джентльмена в лосинах и сапогах, по всему судя, из красного дерева. — Я мог стать и портретистом, мистер Сми!
— Да, кое-кому из нас повезло, что вы занялись высоким искусством, Гэндиш, — ответил мистер Сми; он отхлебнул из бокала и, поморщившись, поставил его на стол: вино, и вправду, было не из лучших.
— "Две девочки", — продолжал неукротимый мистер Гэндиш. — Мотив для картины "Дети в лесу". Вид на Пестум; писан мной с натуры во время путешествия с покойным графом Кью. Доблесть, Свобода, Красота и Коммерция оплакивают вместе с Британией кончину адмирала виконта Нельсона — аллегория, созданная мной в юности, вскоре после Трафальгарской битвы. Мистер Фьюзели, увидев ее, сэр, сказал мне, тогда еще штуденту Академии: "Держитесь античности, юноша. Нет ничего выше ее". Так и сказал. Соблаговолите пройти со мной в мой атриум, и вы увидите мои величайшие полотна, тоже из английской истории. Английский живописец, работающий в историческом жанре, должен брать сюжеты по преимуществу из отечественной истории, сэр. К этому я и стремился. Отчего не строят у нас храмов, где даже неграмотный мог бы воочию познакомиться со своей историей? Отчего мой Альфред висит здесь, в сенях? Все потому, что нет у нас заботы о людях, посвятивших себя высокому искусству. Известен вам этот эпизод, полковник? Король Альфред, спасаясь бегством от датчан, укрылся в пастушьей хижине. Хозяйка, женщина простая и грубая, приказала ему испечь лепешку, и бежавший монарх взялся за сей низкий труд, но в мыслях о судьбе государства совсем позабыл про лепешку и дал ей подгореть, за что был побит женой пастуха. Мной взят момент, когда женщина замахивается на короля, а он принимает удар, величественно и в то же время смиренно. На заднем плане в дверь хижины входят королевские военачальники, чтоб возвестить о победе над датчанами. В отворенную дверь глядит заря, символизирующая рождение надежды. Легенду эту я обнаружил во время своих исторических изысканий, и сотни, да, сотни художников с тех пор воспользовались ею, сэр, — настолько она всем понравилась. А я, открывший ее, по-прежнему остаюсь владельцем своей картины! А теперь, полковник, — не унимался зазывала, — посмотрим коллекцию моих скульптур. Вот, это — Аполлон. Это — знаменитая Венера Анадиомена, украшение Лувра. Я лицезрел ее во всей красе в тысяча восемьсот четырнадцатом году. Лаокоон. Нимфа работы моего друга Гибсона. Как видите, это единственная статуя современного автора, допущенная мной в мир античности. А сейчас поднимемся по этой лестнице в мастерскую, где, надеюсь, будет прилежно трудиться мой юный друг, — мистер Ньюком. Ars longa est, мистер Ньюком, a vita… [50]
— Я в страхе ждал, — рассказывал Клайв, — что тут мой папенька процитирует свое любимое изречение, начинающееся словами "ingenas didicisse…" — но он удержался, и мы вошли в комнату, где сидело два десятка учеников, которые при нашем появлении подняли головы от рисовальных досок.
— Здесь ваше место, мистер Ньюком, — сообщил живописец, — а здесь — вашего юного друга… Как его, вы сказали?.. — Я еще раз назвал ему Ридли. Ведь мой добрый старик, как ты знаешь, обещал платить и за него. — Это — мистер Чиверс, мой старший ученик, а в отсутствие моего сына и здешний староста. Мистер Чиверс — мистер Ньюком. Джентльмены, это мистер Ньюком, ваш новый соученик. Мой сын, Чарльз Гэндиш — мистер Ньюком. Усердие, джентльмены, усердие! Ars longa. Vita bre-vis, et linea recta brevissima est [51]. Сюда, полковник, вниз по лесенке, через дворик в мою штудию. Итак, джентльмены… Вот!.. — объявил Гэндиш и отдернул занавеску.
Вволю нахохотавшись над этим рассказом в лицах, мы спросили Клайва, что за шедевр был там в студии.
— Шапку по кругу, Джей Джей! — крикнул Клайв. — Леди и джентльмены, платите! А теперь входите, представление начинается… — Но мошенник так и не сказал нам, какое творение Гэндиша скрывалось за занавеской.
Не слишком удачливый живописец, мистер Гэндиш был превосходным учителем и хорошим судьей чужих работ. Вслед за описанным визитом Клайв явился к нему со своим другом, Джей Джеем, уже в качестве ученика. Один — почти горбатый, невзрачный, плохо одетый и понурый — скромно примостился за своей рисовальной доской; другой, — сияя красотой и здоровьем и одетый у лучшего портного, — вошел в мастерскую в сопутствии двух адъютантов — отца и мистера Сми, заранее расхваленный на все лады почтенным Гэндишем.
— Спорю, что ему давали вино с пирожным! — объявил один из учеников, эпикуреец с саркастическим складом ума. — И каждый день будут давать, коли он захочет.
И в самом деле, Гэндиш щедро потчевал Клайва сладкой лестью и пьянящими восхвалениями. Рукава у Клайва были на шелковой подкладке, рубашка — с запонками, ни цветом, ни тонкостью полотна не походившая на тот сомнительный предмет туалета, который являл миру Боб Граймз, когда снимал сюртук, чтобы переодеться в рабочую блузу. Клайву подавали лошадь к самому крыльцу Гэндиша, выходившему на одну из верхних улиц Сохо. Когда же он садился на коня и лихо отъезжал прочь, вслед ему из окна гостиной улыбались девицы Гэндиш, а из дома напротив бросали нежные взгляды их соперницы, черноокие дочки танцмейстера Левисона. Простодушные ученики Гэндиша единогласно высказались в том смысле, что Клайв — "молодчага" и к тому же — "франт и хват". Притом он еще и рисовал прекрасно. Тут не могло быть двух мнений. У Гэндиша, конечно, все рисовали друг на друга карикатуры, но когда рыжеволосый верзила-шотландец мистер Сэнди Макколлоп, изобразил в смешном виде Джона Джеймса, Клайв в отместку нарисовал такой портрет Сэнди, что вся комната покатилась со смеху. Тут каледонский великан принялся осыпать товарищей язвительными упреками, называя их скопищем трусов и подхалимов и присовокупляя к этому другие более грубые эпитеты, и тогда Клайв скинул свой щегольской сюртук и пригласил мистера Макколлопа на задний двор, где и преподнес ему урок, им самим полученный когда-то в школе Серых Монахов, — точнее, подставил Сэнди такие два фонаря, что на время лишил беднягу возможности видеть голову Лаокоона, каковую ему надлежало скопировать. Продлись поединок еще хоть немного после блестящих выпадов Клайва правой и левой, превосходство шотландца в летах и весе могло бы привести к иному исходу; однако на шум битвы из своей мастерской появился профессор Гэндиш и глазам своим не поверил, увидев, что сталось с глазами бедного Макколлопа. Шотландец, надо отдать ему должное, не затаил против Клайва злобы. Они подружились и оставались друзьями не только у Гэндиша, но и в Риме, куда оба потом отправились продолжать образование. Мистер Макколлоп давно уже стал знаменитостью; его картины — "Лорд Ловат в темнице" (на ней также изображен рисующий Ловата Хогарт), "Взрыв часовни в Филде" (написана для Макколлопа из Макколлопа), "Истязание ковенанторов", "Убиение регента", "Умерщвление Риччо" и прочие исторические вещи, все, разумеется, из истории Шотландии, — доставили ему известность как в северных, так и в южных графствах; глядя на мрачные эти полотна, трудно было поверить, что Сэнди Макколлоп — редкостный весельчак. Не прошло и полугода после упомянутой стычки, как они с Клай-вом стали закадычными друзьями, и это по ходатайству Клайва мистер Джеймс Бинни заказал Сэнди первую картину, для которой тот избрал веселый сюжетец: юный герцог Ротсей умирает в подземелье голодной смертью.