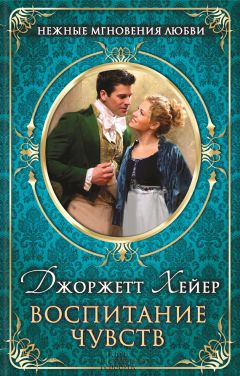Гюстав Флобер - Первое «Воспитание чувств»
Начал Жюль с тирады против той жизни, что ведет в провинции, — ничем не примечательной, приземленной, наполненной мелочной предприимчивостью, протекающей в окружении почтенных отцов семейства; он подтрунивал над самим собой, но выказывал себя и впрямь слишком достойным осмеяния, чтобы Анри захотелось улыбнуться.
Затем он пожаловался, что не награжден ни одним из выдающихся пороков, могущих осчастливить, а потому жалеет, что от рождения не воспылал страстию к домино и не питает склонности к чтению газет. Он, конечно, мог бы влюбиться в какую-нибудь жену нотариуса или кондитера и развлекаться наставлением мужу рогов, на что неотвратимо обречены главный клерк в конторе или старший приказчик из лавки, хотя, впрочем, женщины не находят его симпатичным, ввернул он, при всем том оставляя возможность предположить, что отверг немало нежных авансов — потехе, как известно, час: он охотно бы поволочился кой за кем, однако все это по большей части скучно и т. п., - добавив, что, конечно, не чужд способности некоторым образом любить, но только некоторым образом и никоим другим (пассаж, кстати сказать, не слишком внятный, поскольку все это излагалось крайне сжато — качество новое при его всегдашнем пристрастии к растянутости и повторам — и с прежде несвойственной ему откровенностью выражений, что мешает привести их в этой книге: все называлось своим простейшим именем с прибавкою лишь единственного эпитета, нехитрого, но довольно смачного, что, разумеется, продиктовано любовью к местному колориту).
Третья и четвертая страницы были тоже заполнены бешеными инвективами против тщеты подобного существования вперемешку с саркастическими замечаниями о самом себе, поскольку Жюль получал заметное удовольствие, принижая себя и вываливая в грязи, словно исполняя какой-то мстительный замысел против собственной персоны; при всем том занимал его только он сам, ни о ком другом речи не шло: он разглядывал под микроскопом каждую свою черточку, описывал в себе все до последней жилочки или представлял общую картину, как бы вид сверху, поскольку тщеславие его помещалось гораздо выше головы и оттуда с прискорбием на него взирало. Наконец, на пятой странице встретилось имя Анри. Жюль одобрял его отъезд и вообще все поведение, писал, что сочувствует и его привязанности к возлюбленной, и тому счастью, каким она одаривает его друга.
«Сколь ты блажен! — продолжал он. — Как я завидую твоей участи! Судьба, лишившая меня всего, оделила тебя сполна, ты свободен: ни стесняющих пут, ни оглядки на чужое мнение — ни одного из тех вервий, какие опутывают плененный дух, корчащийся в попытке освободиться, да к тому ж ты еще и любим! Рядом с тобою женщина, избранная из всех ей подобных, и она тоже выбрала среди прочих тебя! Сверх того ты обретаешься в мире, превосходящем красотами наш, нет над тобою нашего давящего на затылок свинцового неба, ты не вдыхаешь здешний тяжелый воздух, от которого разрывается грудь».
Следовало описание Америки, воздавалась хвала ее пальмам и девственным лесам, а затем шли вопросы:
«Расскажи, какие труды тебе предстоят? Нашел ли ты хоть одну древнюю народную песню, собрал ли какие-нибудь лоскутки примитивной поэзии тех непохожих на нас людей? Она, должно быть, так же широка, как их полноводные реки, блистает рубинами и сапфирами, слово оперенье их птиц? Право, чем больше я об этом думаю, тем сильнее завидую и восхищаюсь тобой! Как разумно ты поступил, уехав туда! Там тебе открыты все пути — смело выбирай наилучшие! Ты, конечно, уже в каком-то деле, вернешься богачом, почему бы нет? Чего тебе не хватает? Разве ты не в стране, куда едут за бриллиантами и возвращаются с галеонами, полными золота? Впрочем, о чем это я? Богатство в твоем сердце, ибо там — любовь. Прощай, Анри, думай иногда обо мне, и когда в одну прекрасную ночь (ибо говорят, что все ночи у вас хороши!), возложив голову на плечо твоей подруги и вдыхая запах лимонного дерева и алоэ, ты будешь глядеть на блистающие звезды и твои опьяненные счастьем глаза закроются, ослепленные их блеском, подумай тогда обо мне: я тоже подымаю глаза к небосводу, но более тусклому, он же посылает мне на темя водицу из своих облаков, а вместе с ней — тоску и отчаянье. Прощай, прощай!»
Едва кончив, Анри почувствовал необходимость прочитать эти странички кому-то еще, чтобы тот оценил, что его заставили пережить; слов нет — тут надо было одновременно с чтением вновь переварить накопившуюся горечь, удивление, гнев, подымавшиеся в нем от каждого слова, каждой буквы письма, даже от его точек и запятых.
Он показал письмо Эмилии (охотно бы пожаловался всем уличным тумбам и каждой каменной плитке пола в их комнате!), то есть дал прочесть ей самой, не будучи в силах пошевелить губами. И вот под взглядом Анри она его развернула. Он следил, как она пробегает за строчкою строчку, подстерегая крик, который бы громко оповестил о тех чувствах, что не давали ему продохнуть, но на лице Эмилии не отразилось ни тени того понимания вещей, каким был полон он, ни один мускул не дрогнул, ни единый вздох не всколыхнул грудь, ни слова не сорвалось с языка, ни слезинки из глаз, не было даже грустной усмешки, какая обычно замирает на губах; она дышала ровно и продолжала чтение.
Кончив, аккуратно сложила листки по прежним сгибам и отправила обратно в конверт. Возвращая письмо, горестно проронила:
— Бедный мальчик! Кажется, его стоит пожалеть!
И подняла на него свои большие, черные, растроганные глаза.
Онемев от неожиданности, весь бледный, Анри бестрепетно заглянул ей в зрачки, ища тот отблеск симпатии к его собственным чувствам, от которого согреваются сердца; ошеломленный ее молчанием, он без слов глядел на нее, как с полным ужаса удивлением разглядывают опустошенную коробку, где хранилось сокровище. Ничего! Совсем ничего. Все то же мягкое, бездумное выражение, белые зубы показались в обычной улыбке! Так, значит, она ничего не поняла? Ничего не ощутила? Боже, какая узость ума и чувства, сколь много черствости либо глупости в том, как обыденно она выражает нежность к незнакомому ей эгоисту, сетующему на придуманную боль с помощью раздутых фраз!
Он отодвинулся от нее, подавляя адское искушение ее побить, чтобы она громко расплакалась, закричала, хоть единожды в жизни переменилась в лице. Хотел пожаловаться, но тщеславие сковало горло и не позволило заговорить, тем не менее он искал слова: изрыгнуть бы что-нибудь ужасное… Напрасные усилия — все оставалось в нем, то, что просилось наружу, падало внутрь него, образовывая дыры, как угли, прожигающие без пламени.
Что же он сделал? Предложил мадам Рено отправиться с ним на прогулку, благо погода стояла великолепная; та взяла шаль и шляпу, и они вышли вместе.
С того дня для нашего героя все было кончено; он это уразумел и сам себе с очевидностью доказал, не слишком, впрочем, опечалясь. Итак, он смирился с потерей угаснувшей великой страсти и не пытался соотнестись с минувшими временами, а о том, чтобы оживить утраченное, не помышлял вовсе, признавшись себе, что вступает в новую пору жизни, любовь же — драма, играемая в сердце человека, а потому имеет первый акт, второй… и так до пятого, в котором умирает, либо безвременно, например от удара кинжалом, либо в медленной агонии, отравленная кем ни попадя, и уступает место водевилю или другой комедии, чуть посерьезнее, но тоже не без буффонады. С той поры, требуя меньше от собственного сердца, он стал признавать за ним более способностей, а отставив в сторону мечты о счастье, зажил счастливее.
Чтобы настоящее показалось прекрасным, требуется найти нужный угол зрения: солнечный свет не должен слепить глаза, а теням хорошо бы не выглядеть такими черными. Все зависит от перспективы — не следует преувеличивать размеры того, что на горизонте, и преуменьшать стоящее на первом плане!
Утверждать, что Анри разлюбил мадам Рено, было бы несправедливо; он продолжал ее любить, но спокойнее, с меньшим жаром и без поисков абсолюта, так что страсть сделалась прохладнее и мудрее, будучи порождением той прежней, пылающей, но, по существу, став ее антиподом, она более не давала повода к бурным извержениям, кипению лавы в глубинах — отступила, несколько осевши, как выразился бы мэтр Мишель.[75]
Анри теперь лучше спал, его дни потекли размереннее, в последнее время он проявлял меньше амбициозности относительно Эмилии и не столь кичливо взирал на спутницу своих дней, ему перестало казаться, что он так уже нищ, покой и беззаботность вновь заняли в его сердце подобающее место, словно в первые дни влюбленности. Так конец смахивает на начало, а закатные сумерки порой не отличишь от восхода!
То, что он ныне чувствовал к прежней возлюбленной — а она все же оставалась его возлюбленной, хотя он видел ее в ином свете, — можно назвать нежной склонностью, дружбою и привычкой, подобной нашим привязанностям к давним знакомцам и старой мебели. Когда немало живете вдвоем, помня, какими были в молодости, то, видя себя стареющими, вы не тщитесь непременно всякий день сохранять каждую частичку прежнего прекрасного чувства, оно ветшает и превращается в развалины, истирается бархат, увядает шелк, появляются морщины; так и старитесь вместе, почти в полном согласии, не придавая этому значения, не обращая внимания на перемены, и этаким манером погружаетесь в самую беспросветную дряхлость.