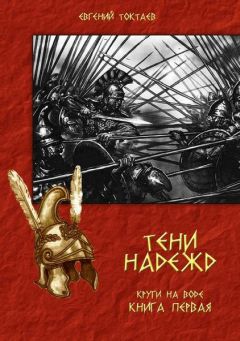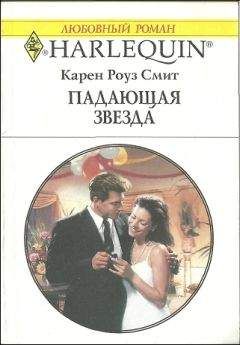Панас Мирный - Гулящая
На третий день он пошел погулять и сам не заметил, как очутился у поповского двора; на четвертый – снова... Вскоре он стал там бывать чуть не ежедневно, как свой человек.
По городу пошли сплетни. Люди передавали из уст в уста рассказы об их продолжительных загородных прогулках. Кто-то видел через окно, как они вечером пили чай... ее рука лежала в его руке, и он время от времени целовал ее. Поповская кухарка, Педора, обладательница большого синего носа, уверяла, что попу все это известно, но он до поры до времени решил терпеть. Только однажды, сильно опьянев, он заговорил с женой, плакал и умолял прекратить свидания.
– Хватит и того, что я уже раз покрыл твой грех... Знаешь, что будет, если преосвященный дознается? – уговаривал он ее. Но она и слушать не хотела.
– Плевать мне на тебя и на твоего преосвященного! Как жила, так и буду жить!
Много еще разных разностей плела кухарка. Но чего только не наговорит прислуга, которой хозяева уже задолжали за три месяца?
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Миновало теплое лето с его солнечными, ясными днями; пришла осень, ненастная, с густыми туманами и темными, непроглядными ночами. Настанет день – оглянуться не успеешь, а он уж на исходе, а ночь длинная-предлинная – и выспишься, и лежать надоест, а свет все не заглядывает в окно, солнце где-то дремлет за горами; только дождь однообразно стучит в стекла, навевая тоску.
Христя и не заметила, как пробежало лето и наступили холодные ночи, начались беспрестанные ливни, загнавшие людей в дома. Выйдешь на двор – дождь, слякоть, а дома тоже не лучше – серо, сумрачно.
В это время тоскливо не только в селе, но и в городе. В селе хоть работа есть – прядут, шьют, а в городе – либо ложись спать спозаранку, либо слоняйся по комнате без дела.
Чтобы скоротать время, Христя начала вышивать сорочку. Марья то ей помогала, то рассказывала разные истории из своей жизни. С того дня, как она вернулась избитая, Марья никуда не ходила и все тосковала, часто плакала. Но слезами горю не поможешь, только изведешь себя. Марья и в самом деле начала сохнуть: безрукавка на ней болталась, как мешок, а в юбке она уже дважды переставляла петли; лицо поблекло и осунулось, померкли глаза, и не один седой волос засеребрился в висках.
В один из таких вечеров Христя принесла в столовую самовар, села на нары и взялась за шитье, а Марья забралась на печь. Кругом было тихо; из панских покоев доносились только звон посуды и приглушенный говор.
Марья молча поглядывала с печи, как Христя, склонившись над шитьем, проворно водила иголкой, то подымая, то опуская руку.
Она думала: вот Христя шьет, а она лежит на печи и ни к чему не прикасается, руки не подымаются. Да и к чему? Христя молода, жизнь ей кажется прекрасной... Когда-то и она была такой. А теперь... То, что раньше улыбалось ей, теперь – кривится, насмехается; то, что радовало сердце, нынче гнетет ее. Отчего же это – от надвигающейся старости или от жизни, полной горя и разочарований? Марье стало горько-горько. Она уже готова была заплакать, но в это время из столовой вышел в кухню паныч. Проходя в свою комнату, он остановился около Христи и тоже стал глядеть на ее работу.
– Ну, что вам? – сказала Христя, прикрыв сорочку руками.
– Разве нельзя? – спросил паныч.
– Конечно, нельзя.
– Боишься, чтобы не сглазил... У меня не такие глаза, – сказал он и ушел к себе в комнату.
Христя проводила его долгим взглядом, потом снова молча принялась за работу.
Марья видит по лицу Христи, как ее взволновал разговор с панычом, как обрадовал его ласковый взгляд. А ее уж ничего не радует.
– Ох, жизнь треклятая! – неожиданно сказала Марья. Христя вздрогнула. И снова тишина. Только еле слышно шуршит полотно и шелестит нитка, продеваемая сквозь сборки. Быстро скользит рука Христи, а позади тень ее неистово мечется по стене.
Вдруг из сеней донеслось шарканье ног. Христя и Марья взглянули на дверь. На пороге показался пан – не пан, но в одежде панской; лицо у него продолговатое, худощавое, усы – длинные, рыжие; в руках у него какой-то черный ящик.
– Григорий Петрович дома? – спросил вошедший грубым охрипшим голосом.
– Дома, – ответила Христя.
– Куда к нему пройти?
– Сюда, – Христя указала на дверь в комнату паныча.
Незнакомец задержался около Христи, с удивлением взглянул на нее и сказал:
– А-а-а...
Христя смущенно отвернулась.
– Лука Федорович! Кого я вижу? Сколько лет, сколько зим! Да еще со скрипкой... Милости просим, – раздался голос паныча за спиной Христи.
– А я загляделся на вашу девушку, – прогудел незнакомец. – Где вы раздобыли такую красотку?
Христя торопливо скрылась за печью. Незнакомец прошел в комнату паныча, оттуда только глухо доносился его хриплый голос.
– Знаешь, кто это? – спросила Марья, когда Христя снова принялась за шитье.
– Столяр, может? – неуверенно произнесла Христя.
– Столяр! – смеясь, сказала Марья. – А ну тебя! Это Довбня, Маринин паныч.
– Так это он! – разочарованно сказала Христя. – Что ж он, служит где? – немного погодя спросила она Марью.
– Не знаю, служит ли он, – только слышала, что он певчими в соборе заправляет. Когда церковным старостой стал купец Третинка, он его откуда-то привез. Этот Довбня, кажется, на попа учился, но потом не захотел стать попом. А пьет – не приведи Господи! Как найдет на него запой, так недели две без просыпу по шинкам ходит. Все как есть пропьет. В одной сорочке бегает, пока где-нибудь под забором не свалится. Тогда возьмут в больницу, там он вытрезвится, отлежится, можно б и выйти – так не в чем. Люди в складчину одежду ему справят пристойную. Снова он за дело принимается. Ох, и мастер же играть! И к пенью талант имеет. Как без него поют в церкви, точно волки в лесу воют – тот сюда, тот – туда; а как он заправляет хором, будто ангелы поют – так согласно и красиво.
– И даст же Господь такой талант человеку, да вот не умеет его беречь, – вздохнув, промолвила Христя.
– Поди ж ты... и ученый, и умный, да вот! Панычи его сторонятся – как им с пьяницей водиться! Паненки тоже его избегают, боятся. Одни купцы его любят... Что ты сделаешь, если грех такой привязался...
Пока Марья рассказывала Христе про Довбню, в комнате происходила оживленная беседа.
– Вы оставили у меня свое либретто и не приходите. Что, думаю, это значит? Может, забыли? И решил сам отнести, – сказал Довбня, кладя на стол скрипку.
– Спасибо, я был очень занят... – сказал Проценко.
– Я и скрипку принес; может, мы вместе что-нибудь состряпаем.
– Значит, вы воспользовались либретто? – обрадованно спросил Проценко.
– Какого черта! Очень закручено, – ответил Довбня. – Свадьбу немного начал. Расскажу вам, только не угостите ли вы меня чаем?
– Христя! – крикнул Проценко. – Самовар уже убрали?
– Нет, он еще в горнице.
– Нельзя ли попросить у Пистины Ивановны чаю?
– Сейчас.
Христя убежала в комнаты.
– Как посмотрю на вашу девушку, обо всем забываю, глаз бы с нее не спускал! – бубнил Довбня, пристально глядя на Христю, принесшую им чай на маленьком подносе.
– Да берите же, а то брошу! – покраснев, как мак, сказала Христя.
Довбня, не сводя с нее восхищенного взора, лениво протянул руку, и, как только он взял блюдце, Христя вмиг убежала из комнаты.
– Вот это так, это – смак! Не городская потаскушка, не барышня, у которых в жилах вместо крови течет бураковый квас. Эта солнцем опалена, кровь у нее – огонь! – говорил Довбня, болтая ложечкой в стакане.
И он начал рассказывать Проценко разные случаи из своих пьяных похождений. Это были отвратительные приключения и прихоти беспутного пьяницы, вызывавшие омерзение свежего человека.
Видно, такими же они показались и Проценко, потому что он поспешил прервать Довбню:
– Бог знает, что вы мелете. Неужели умному человеку не стыдно на такое пускаться?
– Умному, говорите? – спокойно спросил Довбня. – А при чем тут ум? Натура – и все! Пьете вы? Ну...
Он не досказал. Да и нечего досказывать. Проценко страшно стало от такой неприкрытой откровенности. Он стремился замять этот разговор, перейти на другие темы и снова напомнил о либретто, над которым он работал с неделю. Хотя он писал второпях и не очень старательно, тем не менее придавал этой вещи большое значение. В его голову давно уж запала мысль написать оперу по мотивам народных песен, таких чудесных и значительных. Порой на сцене уже ставились спектакли на сюжеты этих песен, одной или нескольких, и они имели огромный успех у зрителей. Но все же это еще не была опера, а только первые шаги к ней, первые робкие попытки взяться за большое дело, которое ждало своего зачинателя.
Кто знает, не ему ли выпала судьба стать этим зачинателем? Недаром же ему первому пришла в голову мысль создать оперу. Почему же ее не осуществить, если у него есть к тому же большое желание поработать на этом поприще? Надо только завершить либретто, а музыку подобрать к нему из народных песен... Это уж дело нетрудное. Придется только попросить кого-нибудь знающего ноты, чтобы записал мелодии. Жалко, что он сам не учился музыке, тогда б сам все это сделал. Эта мысль так увлекла его, что он уже представлял свою оперу поставленной на сцене. Всюду толки, разговоры: «Проценко написал оперу. Ставит оперу Проценко!» Какая честь для него! Надо скорее кончить либретто и посвятить оперу попадье, такой знаменитой певице... И он его за неделю отмахал. Это был рассказ о том, как девушку выдали замуж за немилого, как сыграли свадьбу, как она потом была несчастлива с нелюбимым мужем и, наконец, с горя утопилась. Узнав, что Довбня хорошо знает ноты и к тому еще играет на скрипке, он познакомился с ним и попросил написать ноты.