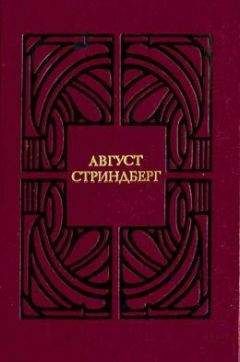Казимеж Тетмайер - Ha горных уступах
— Эй, Ясек! Не взять тебе игрой Марисю! — говорили девки.
— А все лучше хоть поиграть ей, чем с вами целоваться, — отвечал он им.
— Эй, Ясек! Жаль тебя!
— А мне хоть умереть для нее, — и то не жаль!
— Не судьба тебе с ней…
— Но есть Преображение Господне чудесное на небесах.
А потом уйдет куда-нибудь, да как грохнется где-нибудь под сосной лицом оземь… Просто жаль было парня!..
Старик горец, Тирала, умный мужик (он капралом у царицы Терезы в драгунах служил), сказал раз, глядя на Яська-музыканта, когда тот под сосной лежал:
— Эти музыканты — какой-то совсем чудной народ.
Бывают из них и умные, да мало, — за то уж как попадется дурак, так хуже самого черта.
Был у нас в полку, в третьем эскадроне, горнист, молодец — парень, чех… чудно его как-то звали… Недопил… что ли?.. Имя ему было Карл… И вот как полюбил он одну девку, служанку, в Вене: бух с моста в Дунай!
— Вот тебе раз! — кричит Антося, его крестница, которой шел семнадцатый год. — И утонул?!
— Вытащили еле живого. Спрашивает его вахмистр: чего ты так сдурел? А он говорит: не захотела меня девка, которую я полюбил.
— А что он потом сделал, крестный?
— Только что его из больницы выпустили, бух во второй раз! За то уж лучше наметил, куда прыгать; так его и не нашли.
— Господи Боже!
— А играть он умел так, что сам фельдмаршал Лаудон дал ему раз на маневрах два талера серебром. Он на этого Яська был даже немного похож, глазами.
— Эх! Хотела бы я, чтобы меня кто-нибудь так любил! — говорит Антося.
— А что бы ты ему дала за это? — смеется старый Тирала.
— А тебе что за дело, крестный? — и все со смеху покатываются.
И шли дни за днями, недели за неделями, а все было по-прежнему. Марися Далекая слушала Яськову музыку, но он не был ей ближе, чем прежде.
— Да спроси ты у нее, — говорят ему девки, — любит она тебя или нет?
— Не смею.
— Так посмей! Ты не мужик что ли?
— А как скажет: нет?
— Пойдешь к другой.
— Нет! Лучше помру!
— Грех так говорить!
— Эх! Мне и небо не мило, и ад не страшен!
— Так уж ты ее полюбил?
А он больше ничего не отвечал.
Вот настал раз солнечный день, такой бодрый, такой погожий, какого не было еще тем летом.
Встал Ясек поутру, поднял голову, поглядел на небо, на горы и говорит про себя: Правда! Не мужик я, что ли? Надо ж так или этак решиться.
И идет он прямо к Марисе, находит ее: она стоит над ручьем, наклонившись, зажала подол меж колен, ноги до колен голые — белье моет.
— Марись! — говорит он.
Марися выпрямилась.
— Что?
— Марися! Не могу я дольше выдержать. Люба ты мне.
А она покраснела и сейчас побелела вся.
— Люба ты мне, — говорит Ясек. — В жены бы взял я тебя.
А она грустно качает головой: нет, мол.
— Нет? — говорит он, и видно, что у него в глазах потемнело.
— Нет.
— Никогда?
— Никогда.
— Последнее слово?
— Последнее.
Едва мог он выговорить:
— Отчего? Я тебя люблю, как свет Господень…
— Так мне и оставаться. На веки. Ни за кого я не выйду… никогда…
Отвернулась, наклонилась, опять взялась за стирку.
Хотел Ясек с ней еще говорить, да только не отвечала она. Слезы стали подступать к его глазам, хоть не плаксивый был парень: сдержал их, не пустил из глаз на лицо, но казалось ему, что все они стали падать по капле в сердце, как расплавленный свинец, который он видел на плющильне в кузне.
Ушел.
А Марися Далекая стала с той поры совсем другой с ним. Бегает от него, иногда обидное слово скажет, не попросит сыграть, а когда он играет — не слушает. Словно он что дурное ей сделал: льдом от нее на него веет.
И грызло же горе несчастного Яська. Что он ей сделал? Сказал, что любит ее. Да разве он ее неволит? Разве докучает ей? С первого же слова отстал он от нее, как отскакивает ветка от сосны, когда в нее гром ударит.
Думает он и думает… Что тут за причина может быть? Что не люб он ей… Ну что ж, всякое бывает… Но чтобы ни за кого идти не хотела такая девка, красивая, здоровая, молодая… Не понять!
Тут что-то должно быть…
Уж не тяжкие ли слезы какие?..
Ведь не даром поют:
Умру я, матушка, не от хворости,
Умру, родимая, от тоски-змеи.
И так было ему плохо, что справиться с собой не мог.
— Эх! — говорил он, — лучше бы мне на осине висеть… Что я ей сделал? Что я ей сделал? Ведь не обидел ее, ведь слова ей не сказал… Радость моя…
И уходил куда-нибудь в лес и играл.
А играл он так, что, когда Антося, Тиралова крестница, раз под лесом коров пасла и игру его услыхала, так ее его игра за душу взяла, что она навзрыд заплакала, да так весь день и ревела.
— Чего ты плачешь, девка? — спрашивает ее Тирала.
— Я… Ясек… так… играет, крестный…
— Ну и пусть его играет.
— Да и у меня так… на сердце… люто, что невмоготу…
— А что ж тебе невмоготу?
— Не знаю… крестный…
— Уж не тянет ли тебя к нему? — смеется Тирала.
Антося сразу проглотила слезы и разозлилась:
— А к кому меня должно тянуть?.. Не к тебе ли? ишь, тоже, репа сушеная, за кого принялся… Ишь…
Пока еще стояла погода, Ясек шлялся со скрипкою по лесу и крепился, как мог. А когда залили ливни, когда подошли туманные, пасмурные, скучные осенние дни, когда вершины запорошило, когда мгла, мрак пали в долины — у него от тоски чуть сердце не выскочило. И любить она его не хотела, и не знал он, чем немил ей стал, чем ее обидел, что ей дурного сделал. И не знал уж, что хуже: то или другое? За любовь бы жизнь отдал, обиду бы жизнью искупил… Да.
Раз после полудня Марися что-то разнемоглась, не выгнала коров, — он видел, что она вошла в шалаш, где варят обед. Пошел за ней.
Вошел молча. Сел у стенки на лавку, и она на лавке сидит, не смотрит на него.
Прошло уж много времени, а они все молчат; снял Ясек скрипку со стены, стал бренчать пальцами по струнам. Побренчал раз, другой… Потом зазвенел пальцами на струнах:
Уж как пас волов я в поле, где зеленый дуб стоит,
Красна девица приходит: ты зачем тут? — говорит.
А Марися в слезы. Сначала сдерживалась, — а потом плач прорвался, как огонь.
Ясек вскочил с места:
— Марись! Что такое? Чего ты плачешь?
А она все плачет.
— Чего ты плачешь?! Твои слезы, как камни для меня… Скажи! Отчего ты со мной такая? В чем виноват я перед тобою? Чем я тебя обидел? Марись!
— Эх… ни в чем ты не виноват, ничем ты меня не обидел… Только зачем ты, зачем на струнах заиграл…
— Да ведь я не раз тебе играл, и ты не плакала, — говорит Ясек.
— Не надо было… теперь… — говорит Марися. Задумался Ясек… Думал минуту, потом бросил скрипку на землю, ногой толкнул. Берет руки Мариси, целует.
— Прости! — говорит.
— Не в чем… Чем ты виноват?.. Ничем, — отвечает она.
— За что ж ты сердилась на меня?
— Не сердилась я… нет… не понять тебе того никогда… никогда.
— Не сердилась?! — кричит Ясек, поднимая на нее глаза.
— Нет… только сердце у меня наболело…
У Яська слезы стали навертываться на глаза, но он удержал их.
— Отчего у тебя сердце наболело? — спрашивает.
— Если бы знал ты… Болело оно у меня, болело, да тихо, а теперь громко заболело…
— Из-за меня?
А у Мариси снова слезы брызнули из глаз. Видно, себя уже не помня, стала причитать она, рыдая…
— И любила я его, любила…
И шатается, словно вот-вот упадет. Едва о стену успела опереться, да Ясек ее поддержал.
— Это он так пел… когда коней пас… Я его спрашивала, а Зоська Чаювна знала, что… И любила я его, любила…
Больше не могла говорить она, затихла… А Ясек целует ей руки, колени. Тихо стало в шалаше, только синий огонек на костре пляшет.
— Не хотел он меня, — говорит Марися, помолчав. — Взял Зоську Чаювну, женился. Ничего я ему не говорила, да знал он, что я гибну… Эх, когда их венчать вели… в Хохоловский костел… когда их вели…
— Марись…
— Стой… пройдет… Вели их… А я стояла в сторонке… Когда им ксендз руки соединял…
— Марись…
— Стой… Взял их руки, кольца обменял, повенчал, клятву взял… и он уж стал ее… Вышел он из костела… Перо у него было на шапке, красные ленты на вороте… А она в венке. Эх, Ясек, сто лет буду жить, не забуду…
— Марись!
— А я осталась там. У костела, у стены. Никто меня не видал… Поехали… И заиграла ему музыка его песню, эту самую… Простояла я там до-утра… Просила Бога, чтоб смерть ко мне прислал — не пришла… И клятву дала, обет: если вас ксендз связал на веки, так я Тебе, Господи, клянусь и обет даю, если уж Ты мне этого счастья дать не захотел, что меня никогда не поведут к алтарю в венке, никогда, никогда… только в гроб меня такою положат…