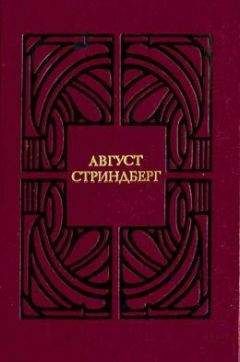Казимеж Тетмайер - Ha горных уступах
— Не исповедывался уж года три!
— Это ксендзово дело, а не твое. На то и есть ксендз в Хохолове.
— Как разозлится — ругается!
— Так тебя же ругает! И хорошо делает.
— Святым не верит.
— Так и они ему не верят. Я это хорошо знаю, мы ведь друзья, а ты у них под хвостом!
Разозлился на это дьявол, идет к Самку от двери.
— Иди, душа! Беру тебя! — скрипит он.
Вынул вилы откуда-то из-за плеч и идет к Самку. А ангел ему:
— Ах, ты нехристь! Сто чертей ты слопал! Да какой же я ангел, коли с тобой не справлюсь.
И хвать за вилы рукой.
— Было тут на что посмотреть, — рассказывал Самек, — ангел, знать было по нем, был дюжий, да дьявол тоже не слаб. Чуть он меня рванет вилами, ангел его держит. Только я диву дался, что никакого шуму они не делают. Говорить говорили, так, по человечьи, но чтобы задеть что-нибудь — ни-ни… Ничего не было слышно.
Наконец, ангел вырвал у дьявола вилы и вышвырнул их сквозь крышу в поле. Следа на досках не осталось, только скрипнули слегка, — тогда дьявол повернулся и бух — в дверь. Удрал.
— Ну, душа, — сказал ангел Самку, — спас я тебя.
— Храни тебя Господь, ангелочек! — ответил Самек.
— Ну, что, Войтек, хочешь идти со мной на небо?
Почесал Самек за ухом, не хотелось ему еще уходить со света, под пятьдесят лет ему всего было, а главное, жаль было того медведя с белой полоской на шее, что в Темных Соснах засел, жаль было и свадьбы у Собчака, куда его звали, — да только нельзя же такому человеку, как ангел, перечить. Чешет он за ухом, да говорит:
— Эх, если б отпустил ты меня на малость, тут только на одного медведя сходить… Свадьбу у Собчака бери уж, пусть ее, — коль нельзя иначе.
Не сказал я ему, какой медведь, или где он, — много ли ангел толку в охоте знает.
А он ответил:
— Ну, будь по твоему. Оставайся еще и иди на этого медведя.
И поднялся на крыльях и улетел сквозь крышу.
И не успел я его спросить даже, как звать его — Серафим, или Херувим, или как, не успел поблагодарить его, — вылетел это он сквозь крышу, только в глазах мелькнуло.
Да, видно, Господь Бог иначе рассудил, — не так, как он мне говорил, — а то я и того медведя убил, как только мне от раны полегчало, и на свадьбе был, и до сегодня живу и, может быть, жить буду и не год и не два.
Такого дивного видение никогда уж больше не было Самку, хоть раз ночью он повстречался и с Монахом у Хиньчова озера. Только этот призрак ничего ему не сказал, а лишь, проходя мимо, пододвинул светильник к его лицу и пошел дальше.
— Так бы и сказал ты, что он не идет, а плывет, хоть передвигает ногами под своей рясой. Борода у него по пояс, а глаза словно бельмами подернуты. Капюшон на нем остроконечный, — чуть ступит, он на нем болтается. Светильник в руках несет красный, красивый такой. Видел я, как шел он вниз, в долину. Там потом река разлилась, трое людей и собака утонули.
Там, в разбойничьей избе, однажды отдыхали пять людей. Они украли под Гавраном двух волов и барана у крестьян. Был между ними Михаил Калинский с Белого Дунайца, который даже в костел в Поронине с кривым ножом за пазухой ходил; был Климек Заруцкий, парень с гладким и нежным, почти женским лицом, который по очереди соблазнил семь сестер Михлянок и тем прославился; кроме того, он был разбойникоим. Был Ясек Валя, с Валевой Горы, который умел прыгать через забор такой же вышины, как он сам, знаменитый танцор и вор. Была там Зоська Моцарная, вдова Кубы Питоня, был там Яхим Топор из Грубого, ее двоюродный дядя, восьмидесятилетний старик, еще крепкий и смелый, с которым никто не мог сравняться в уменьи уводить волов. Звали его Нетопырем: он много ходил по ночам.
Волов они привязали к стене, повязали им морды мешками, чтоб они не мычали, потом развели огонь и зарезали барана, чтобы подкрепиться. Зоська стала жарить барана; Каминский не дождался, резал ножом сырое мясо, посыпал его солью и клал в рот. Чуть проглотит кусок, хлебнет водки из бутылки, — а хлебал он так, что еще не насытился, а уж полторы бутылки ушло. Это он «варил в нутре». А по нем и видно не было, что он такой сильный и здоровый.
Когда мясо обжарилось и все наелись, они легли около костра, закурили трубки, — и Зоська, как все. Мало, кто мог выпускать, такие клубы дыма как Зоська. Звезды уже начали показываться на небе и светить сквозь щели в крыше внутрь избы.
Был теплый, июньский вечер, ветер налетал с гор, весело играя в лесу, словно тешась своими крыльями и летом.
Яхим Топор лежал близ огня, он уж любил греться и в теплые ночи. Хранил он стародавний обычай — носил еще на шее ожерелье из камешков и косточек, а на голове высокую баранью остроконечную шапку, окрученную шнурками, с нанизанными на них раковинами.
Голова его была похожа на голову старой совы, глаза у него были огромные, выпуклые.
Помнил он многое из далеких-далеких времен, помнил еще лук на стене, висевший в избе в его детские годы; с этим луком предки его когда-то на охоту ходили. Умел он в поздней своей старости на диво метать топором так, что срубал ветви в любом месте. Один лишь покойник Косля Горный мог в свое время равняться с ним в этом искусстве.
Оставили ему родные после смерти немного земли и скота, что пасся летом в Ваксмундских горах, а зимой близ Топоровых озер, — он увеличил стадо, да глупо сделал: когда дети подросли, все роздал им, а они, вместо того, чтобы кормить его, как обещались, выгнали его из дому. Пришлось ему скитаться; он все больше разбойников держался, и хоть стар был и силы большой у него не было, а мог взапуски с молодыми ходить в дальнюю дорогу, даже бегать, и был очень опытен в кражах, привыкнув к ним с детства за свою долгую жизнь.
— Мне и восемнадцати лет не было, — говаривал он, — как я с разбойниками на грабеж ходить стал, так уж меня природа моя к тому тянула. Мне дома не сиделось, когда я слышал, что кто-нибудь на разбой идет; так тянуло, что не приведи Господь. Был у Тонсеницовых озер хозяин, Ян Бирцож, он против Мацька Гусеницы в Закопаном жил, с ним я и пошел в первый раз. Он с собой никогда ничего не брал, кроме суковатой палки, но когда, бывало, разозлится, — ох! люди мои милые! — не мало дюжих парней укладывал он этой палкой. Не было атамана лучше его!.. С ним я первый раз на разбой ходил. Давно…
В этот вечер Яхим Нетопырь был грустен.
— Дети меня выгнали, шатаюсь я по ночам, Нетопырем меня зовут, — говорил он. — Были у меня четыре дочки и пять сынов, трое померли, шестеро остались; сыновья и одна дочка. Внуков, правнуков дюжин пять будет, а может и больше. Да… Сначала кормили, жил ничего; как к которому приду, у него и сижу. Что мне в голову ни придет, все мне давали. Эх, не прошло и двух лет, все переменилось. Выгнали. Я вот думал над молодостью их: ничего из них не выйдет, ни стрелять по зверю, ни воровать не идут, сидят на земле, за конями ходят, дрова рубят, сено косят. Ни за что путное не берутся. Думал: ведь должен быть хоть один на свете, что делать что-нибудь будет. Эх, не приведи Господи! Все на земле сели — хозяева. В деда пошли, по матери. Сеют, боронят, пашут, а чтобы молодцами быть — не их дело. Выгнали меня. Позоришь нас, — говорят, — ты, старый вор, разбойник! Эх! кабы я не крал, не было бы у вас, у каждого по коню, да по три коровы, сынки! Не мало сапог износил я ради вашего добра, да больше двадцати лет, коли посчитать, в тюрьме сидел. А мало ли на моей спине палок побывало — в Липтове, на Ораве, в Новом Торге — больше тысячи! Не было б у вас, на чем хозяйничать теперь, кабы не я! Эх! Коль случай подвернется, так я теперь у них у самих бычков повыкраду!
Берегитесь! Миська! Есть там еще горелка?
Подал ему Каминский бутылку; старик выпил.
Плюнул, губы утер рукавом.
— Хорошо! давай еще!
Выпил еще.
Отнял бутылку ото рта и заворчал: Берегитесь, берегитесь, сынки! Завтра поутру и мы там можем быть. Ха!
Опять отпил. Лицо его покраснело, огромные, выпуклые глаза около кривого носа словно разбухли от блеска, узкие, продолговатые, опущенные в углах губы начали дрожать.
— Гей! Сынки! Хозяева! Тепло вам! Баба постель греет! Гей!
В голове у него начало мутиться.
— Эх! Не бывало на свете других таких молодцов, как Лущики Яркие… Зарево устроили раз такое, что все небо горело… Эх! Лущики Яркие!.. Эх!.. Хоть одного бы из них в Грубое пустить, к сынкам, к хозяевам… Баба постель греет… Вот бы светло было!..
Вдруг он вскочил.
— Иду!
— Куда? — спросили товарищи.
— В Грубое!
— Зачем?
— У детей ночевать. Будьте здоровы, люди мои.
И прежде, чем те успели оглянуться, он ушел. Захрустели ветки близ избы, зашелестела трава, и старик исчез в лесу.
Спит Каминский, спит Валя; глухая полночь. Зоська Моцарная (она около Заруцкого лежала: ребра у него стальные были) толкает его и говорит:
— Климек! Смотри-ка! Зарево, или что на небе? Да ведь не светает еще!