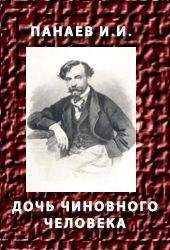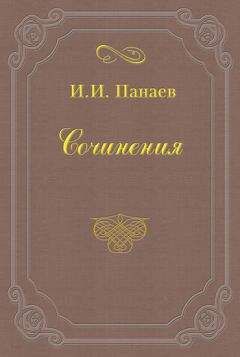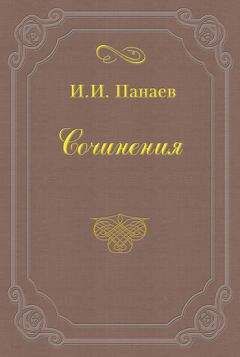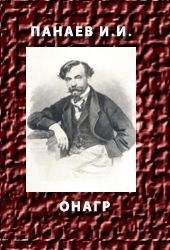Иван Панаев - РОДСТВЕННИКИ
- Ах он, разбойник, вольнодумец, христопродавец! - восклицал, задыхаясь, отец
Григорья Алексеича, - вишь, какую штуку отколол! Отнять у меня сына хочет - только!..
Да я лучше отдам его в свинопасы, чем к нему на воспитание, к душегубцу! Пусть свиней лучше пасет с подлецом Ермошкой!..
Но судьба Григорья Алексеича решилась вдруг и совершенно неожиданно. В одно прекрасное утро отец его внезапно скончался. Дела по смерти его оказались в величайшем расстройстве. Положение вдовы было бедственно. К счастию ее, Иван Федорыч, которого покойный звал христопродавцем, первый явился к ней, принял в ее положении участие и упросил ее, чтобы она отдала ему Григорья Алексеича на воспитание. Вдова решилась на это, впрочем, не вдруг.
Большой старинный барский дом, отдельная комната, посвященная книгам и уставленная бюстами великих мужей древности; стол, заваленный брошюрами, газетами и книгами; лакеи, обутые, обритые и одетые прилично, хотя и смотревшие несколько мрачно и исподлобья; хозяин дома, обращавшийся очень тихо и кротко со всею дворнею, - все это приводило сначала Григорья Алексеича в немалое изумление. Но он недолго скучал по родительском крове и скоро привык к своей новой жизни, которая так резко отличалась от жизни его семейства. К удовольствию наставника, ученик оказывал быстрые успехи и развивался. Через два года Григорий Алексеич мог свободно читать по- французски и даже по-немецки. Он жадно и без всякого разбора принялся за чтение.
Особенно нравились ему французские новейшие драмы и романы; но Иван Федорыч остановил его юношеский порыв. Иван Федорыч не терпел новейшей французской литературы. Он боялся, что она произведет вредное влияние на его питомца, и с особенным наслаждением вводил его в таинственный и мистический германский мир, так раздражающий нервы, так обаятельно действующий на юное воображение. Гофман, Тик,
Уланд, Жан-Поль Рихтер были настольными книгами Ивана Федорыча. Действительная, практическая жизнь не имела для него никакой поэзии, никакого интереса. Высочайшим идеалом была для него рыцарская, средневековая Европа. Он бродил ощупью в туманных, фантастических мирах и был совершенно глух и слеп для действительной жизни - решительно не ведая, что делается у него под носом. Добрый и кроткий от природы, искренно негодовавший против всякого притеснения и насилия, он верил на слово своему управляющему-немцу, который в глазах его самым бесстыдным и наглым образом обирал и притеснял крестьян его, уверяя, что они благоденствуют. Четыре года сряду прожил он в деревне с намерением поправить свои дела, расстроенные еще его отцом и дедом, и в продолжение этих четырех лет не мог узнать положительно, ни сколько у него земли, ни сколько душ. Врожденная беспечность и лень широко развились в Иване Федорыче под благотворною сению деревенского быта. Любо и вольно было ему, в халате и туфлях, на широком восточном диване лежать целые дни с книгою Жан-Поля Рихтера в руке и с янтарем в зубах, изредка прерывая чтение или мечту ленивым криком: "Васька! трубку…"
Одного только недоставало Ивану Федорычу - человека, с которым бы иногда, за чашкой чая, с янтарем в зубах, пофилософствовать и помечтать… Но вот Григорий Алексеич подрос… Ему девятнадцать лет… с ним можно говорить о чем угодно: он понимает все; чего ж лучше? Надо заметить, что Иван Федорыч, первые месяцы с горячностью принявшийся за образование своего питомца, от непривычки к труду скоро утомился и предоставил его собственному развитию. Ученику нельзя было не увлечься примером учителя… Удобства праздной, барской жизни - соблазнительны; Григорий Алексеич обыкновенно так же лениво валялся по дивану с Шиллером, как Иван Федорыч с Жан- Полем. Григорий Алексеич по целым часам лежал на косогоре близ рощи и, мечтая о чем- то, следил за полетом жаворонка и прислушивался к его песне.
- Боже мой! как хороша природа! как хороша жизнь! - восклицал он, с чувством глядя на своего благодетеля. А тот, вздыхая, смотрел на него с завистью, думая: "Когда-то и я так же живо и страстно восхищался природою и жизнию!.." И брал дикие и мрачные аккорды… на расстроенных фортепьянах.
Однажды утром, за кофеем, Иван Федорыч как-то необыкновенно пристально и долго глядел на Григорья Алексеича. Григорий Алексеич был уже молодец хоть куда, высокий и статный. Он значительно пополнел на вольном воздухе и на даровом хлебе; его густые и волнистые волосы живописно падали до плеч, а усы пробивались с каждым днем заметнее. Иван Федорыч крепко задумался, глядя на него.
"Я взял на себя воспитание этого молодого человека, - думал он, - на мне лежит высокая и святая обязанность в отношении к нему. А я с моей отвратительной беспечностию эгоистически держал его при себе до этих лет. Это непростительно!"
Иван Федорыч, терзаемый этими мыслями, в волнении стал прохаживаться по комнате - и вдруг остановился перед Григорьем Алексеичем.
- Я виноват перед тобой, Gregoire, - произнес он торжественно и не без волнения, - виноват страшно…
Он взял Григорья Алексеича за руку и крепко пожал ее.
Григорий Алексеич с изумлением посмотрел на него.
- Виноват потому, что я не заботился о тебе, потому, что я понадеялся на себя. Я думал, что могу сколько-нибудь подготовить тебя здесь к университету без посторонней помощи; эти годы тебе необходимо было ученье классическое, серьезное, - а они прошли так, они потеряны для тебя без всякой пользы. Это убивает меня, Gregoire!..
Иван Федорыч снова начал прохаживаться по комнате в сильной тревоге.
- Боже мой! боже мой! - говорил он, - хотя бы одно намерение мое, хотя бы одну мысль я мог когда-нибудь осуществить на деле!.. А мне уже тридцать четыре года! Нет, я не способен ни к чему - ни к любви, ни к дружбе, а между тем у меня сердце любящее,
Gregoire, клянусь тебе!
У Ивана Федорыча выступили на глазах слезы.
- В тридцать четыре года я не могу совладать с самим собою, а беру на себя участь других! Пожалей обо мне.
Иван Федорыч бросился в кресло и закрыл лицо рукою.
- Но прошедшего не воротишь, - продолжал он через минуту более спокойным голосом, - нам надобно ехать в Москву сейчас же, не отлагая; время дорого. Ты еще там можешь приготовиться к университету, с твоими способностями это легко… Все еще можно поправить… Не правда ли? Я сам непременно поеду с тобой, я не оставлю тебя, я буду следовать за твоими занятиями.
Григорий Алексеич до глубины души был тронут словами своего благодетеля. Он бросился к нему с юношеским увлечением. Иван Федорыч крепко прижал его к груди и прошептал: "Прости меня!.."
Затем начались приготовления к отъезду, продолжавшиеся ровно четыре месяца.
Известно, до какой степени наши помещики, засидевшиеся в деревне, тяжелы на подъем.
Наконец давно желанный день отъезда наступил. Григорий Алексеич простился с матерью и, полный самых блестящих надежд и фантазий, отправился в Москву вместе с своим благодетелем.
ГЛАВА IV
Во время оно существовал в Москве исключительный кружок молодых людей, связанных между собою высшими интересами и симпатиями, выражаясь языком того времени. Кружок этот состоял из молодых людей, очень умных и начитанных, превосходно рассуждавших об искусствах, литературе и о предметах, относящихся к области самого отвлеченного мышления; только избранные попадали в этот кружок, потому что попасть в него было нелегко. От молодого человека, вступающего в него, требовалось философское проникновение в сокровенные таинства жизни…
Я живо помню это время: с биением сердца, с благоговейным трепетом переступал я, бывало, порог, за которым обсуживались великие современные вопросы, где враждовали и примирялись с действительностью, где анализировались малейшие поступки человека с беспощадною строгостию, где каждый сидел в глубоком раздумье над собственным я и любовался, как дитя игрушкою, собственными страданиями; где с энергическим ожесточением преследовалась всякая фраза и где без фразы не делали ни шагу; где предавалась посмеянию и позору всякая фантазия и где все немножко растлевали себя фантазиями.
Давно разошлись в разные стороны люди, составлявшие кружок этот.
Иных уж нет, а те далече…
Одни пали в бессилии под тяжелою ношей действительной жизни или живут в своих фантазиях и совершенно удовлетворяются ими, другие очень легко и дешево примирились с действительностию, третьи… Но - это был вcе-таки замечательный для своего времени кружок, много способствовавший нашему общественному развитию…
Память об нем всегда сохранится в истории русского просвещения…
Когда Григорий Алексеич приехал в Москву, кружок был в полном цвете. Иван
Федорыч сам принадлежал к нему некогда и из него вынес свое туманное, романтическое настроение и любовь к мистицизму. Сердце Ивана Федорыча сильно билось, когда он подъезжал к Москве, и нетерпение увидеть прежних друзей своих возрастало в нем более и более.