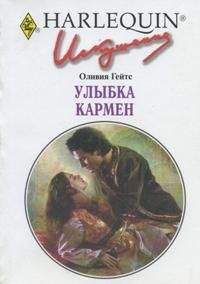Кармен Лафорет - Ничто. Остров и демоны
— Иду, иду.
Шаркающие шаги, неловкие руки отодвигают засовы.
Все, что было потом, показалось мне каким-то кошмаром.
Прихожую освещала одна-единственная слабая лампочка, ввинченная в затянутую паутиной великолепную люстру. В темной глубине громоздилась сваленная в кучу, словно при переезде, мебель. А на переднем плане — яркое пятно: дряхлая старушка в длинной белой рубахе и накинутом на плечи черном кружевном платке. Мне хотелось думать, что я ошиблась квартирой, но у несчастной старушки сохранилась прежняя улыбка, необыкновенно добрая и ласковая, и я сразу поверила, что передо мной моя бабушка.
— Это ты, Глория? — спросила она шепотом.
Я не в силах была рта раскрыть и только покачала головой, но бабушка не видела меня в темноте.
— Проходи, проходи, доченька. Что ты там делаешь? Господи помилуй! Лишь бы только Ангустиас не узнала, что ты возвращаешься в такое время!
Обескураженная, я втащила чемодан и притворила за собой дверь.
Бедная старушка была сбита с толку и забормотала что-то невразумительное.
— Ты не узнаешь меня, бабушка? Это же я, Андрея.
— Андрея?
Она растерянно глядела на меня. Силилась припомнить.
На нее было тяжко смотреть.
— Да, бабушка, миленькая, — Андрея, твоя внучка… Я не смогла приехать утром, как писала.
Бабушка все никак не могла взять в толк мои слова. Но тут в дверях, выходивших в прихожую, показался худой высокий мужчина в пижаме. Он сразу понял, в чем дело. Это был дядя Хуан. Глаза и щеки у него совсем ввалились, и лицо при тусклом свете единственной лампочки напоминало череп.
Он стал хлопать меня по плечу, называя «племянницей»; тут и бабушка бросилась мне на шею и, вглядываясь в лицо светлыми, полными слез глазами, зашептала: «Бедняжка… бедняжка».
Было в этой встрече что-то тоскливое, а в квартире стояла удушливая жара, будто застоявшийся в четырех стенах воздух скис или протух. Подняв глаза, я вдруг увидела похожие на привидения фигуры. Мурашки поползли по коже, когда из полумрака выступила женщина, одетая в длинное, как ночная рубашка, черное платье. Женщина была страшная, вся какая-то растерзанная, зеленоватые зубы скалились в жуткой улыбке. Следом за ней, громко зевая, вышел пес, тоже черный, словно и он носил траур. Никогда еще ни одно живое существо не вызывало во мне такого отвращения, как эта женщина. Потом мне сказали, что она служанка.
Позади дяди Хуана стояла другая женщина, молодая, со спутанными рыжеватыми волосами над остреньким белым личиком; изможденная и вялая, она двигалась расслабленно, будто мокрая простыня колыхалась на ветру, и это еще усиливало и без того тягостное впечатление от всей этой сцены.
Бабушкина голова все еще прижималась к моему плечу, я чувствовала ее тяжесть; и все фигуры вокруг казались мне вытянутыми и мрачными. Вытянутыми, неподвижными, печальными, словно пламя свечей, зажженных возле покойника.
— Ну хватит, мама, все хорошо, все в порядке, — услышала я сухой и несколько недовольный голос.
Я поняла, что за моей спиной стоит еще одна женщина. Она положила руку мне на плечо и взяла за подбородок. Я высокого роста, но тетя Ангустиас оказалась еще выше, и мне пришлось смотреть на нее снизу вверх. В жесте ее сквозило пренебрежение. Седеющие волосы Ангустиас рассыпались по плечам, узкое темное лицо было по-своему красиво.
— Из-за тебя я все утро просидела на вокзале! Могло ли мне прийти в голову, что ты приедешь среди ночи!
Она выпустила мой подбородок и высилась теперь надо мной в белой рубахе до пят и в длинном капоте.
— Господи боже мой! Ну и дела! В такое время девочка одна…
Я услышала, как Хуан проворчал:
— Эта ведьма Ангустиас вечно все испортит!
Ангустиас притворилась, что не слышит.
— Ну, ладно. Ты, наверное, устала. Антония! — обратилась она к женщине в черном. — Приготовьте постель сеньорите.
Конечно, я устала и к тому же чувствовала себя чудовищно грязной. Все эти люди, двигавшиеся здесь рядом со мной или просто глядевшие из полумрака забитой мебелью прихожей, заставили меня вновь почувствовать налипшую на тело грязь и сажу. Хоть бы глоток свежего воздуха!
Я заметила, что растрепанная женщина, одурев со сна, с одинаковой улыбкой смотрит и на меня, и на мой чемодан; я тоже бросила взгляд на чемодан, и мой дорожный спутник показался мне трогательно беззащитным провинциалом. Обмотанный веревками облезлый чемодан стоял рядом со мной, как раз посреди всего сборища.
Подошел Хуан.
— Ты незнакома с моей женой? — И он подтолкнул ко мне растрепанную женщину.
— Меня зовут Глория, — сказала она.
Я увидела, что бабушка смотрит на нас с тревожной улыбкой.
— Что вы, что вы! За руку!.. Да разве так годится? Поцелуйтесь, девочки… Вот так! Вот так!
Глория шепнула мне:
— Страшно?
И мне действительно стало не по себе, когда я увидела, как лицо Хуана перекосила судорога, будто он прикусил себе щеку. На самом деле он улыбался.
Тетя Ангустиас опять принялась командовать:
— Пошли! Пора спать, уже поздно.
— Мне бы хотелось немного помыться, — сказала я.
— Что? Говори громче. Помыться?
На меня изумленно уставилось несколько пар глаз. Глаза тети Ангустиас и остальных родственников.
— У нас нет горячей воды, — проговорила наконец Ангустиас.
— Не важно.
— Ты рискнешь принять душ в такое время?
— Рискну, — сказала я. — Да, рискну.
Какое облегчение почувствовать на своем теле холодную воду! Какое облегчение стать недосягаемой для взглядов этих странных существ! Я подумала, что ванной комнатой здесь, должно быть, никогда не пользуются. В пятнистом зеркале над умывальником (какой тусклый зеленоватый свет во всей квартире!) отражался низкий потолок, весь в паутине, и среди сверкающих нитей воды мое тело: я стою на цыпочках в грязной фаянсовой ванне и изо всех сил стараюсь не коснуться черных стен.
Ванная комната походила на логово ведьм. Закопченные стены, казалось, хранили следы скрюченных пальцев, воплей отчаяния. Уродливые выбоины разевали беззубые рты и сочились сыростью. Над зеркалом (некуда больше было девать!) повесили мрачный натюрморт: белесые рыбы и луковицы на черном фоне. Из перекошенных кранов улыбалось безумие. Точно в пьяном бреду мне стала мерещиться всякая всячина. Резким движением я закрыла душ — исчез хрустальный, добрый волшебник, и снова я оказалась одна среди всей этой грязи.
Как я заснула в ту ночь — не знаю. В отведенной мне комнате стоял рояль с открытой крышкой. По стенам висели зеркала в богатых рамах. Некоторые очень дорогие. Китайское резное бюро, картины, мебель, обитая узорной тканью. Комната походила на чердак нежилого дворца и считалась, как я позднее узнала, гостиной.
Покрытая черной накидкой турецкая тахта, на которой я должна была спать, возвышалась посреди комнаты, между двух рядов ободранных кресел, словно катафалк, окруженный скорбными фигурами. В огромной люстре под потолком не было лампочек, и на рояль поставили свечу.
На прощанье Ангустиас перекрестила мне лоб, а бабушка ласково обняла. Я почувствовала, как бьется, словно зверек, ее сердце.
— Если ты проснешься и тебе станет страшно, доченька, позови меня, — тонким дрожащим голосом сказала она. И таинственно прошептала мне на ухо: — Я никогда не сплю, доченька. Всегда что-нибудь делаю по дому. Никогда, никогда не сплю.
Они наконец ушли, оставив меня одну в забитой мебелью комнате, среди колышущихся теней, которым пламя свечи дарило подспудную жизнь. Смрад, стоявший во всей квартире, в этой комнате так и бил в нос. Пахло кошками. Задыхаясь, не без риска сломать себе шею, я, как на горную вершину, вскарабкалась на спинку кресла: за пыльными бархатными занавесями виднелась дверь, и мне хотелось ее отворить. Но это мне удалось, лишь насколько позволяла мебель. Я увидела, что комната выходит на одну из открытых галерей, благодаря которым так светло в барселонских квартирах. Вверху, в мягкой мгле, дрожали три звезды, и при виде их мне вдруг захотелось плакать, будто я неожиданно встретилась со старыми друзьями.
Вместе с трепетным светом звезд на меня нахлынули воспоминания о том, как я ехала по Барселоне, переполненная мечтами, надеждами и иллюзиями, и вдруг оказалась среди этих безумных людей и странных вещей. Мне страшно было лечь в постель, похожую на гроб. Помню, что, когда я задула свечу, меня всю трясло от необъяснимого ужаса.
IIНа рассвете сбившиеся простыни сползли на пол. Я замерзла и натянула их на себя.
Пошли первые трамваи, и звонки, приглушенные стенами и запертыми дверьми, долетели до моих ушей, как и в то лето, когда семилетней девочкой я в последний раз приезжала к дедушке с бабушкой. И тотчас же всплыл образ, зыбкий, но сочный и свежий, словно навеянный запахом недавно сорванного плода, образ того, что было в моей памяти Барселоной: утро, грохочут первые трамваи, и тетя Ангустиас проходит мимо постели к балкону опустить жалюзи, — сквозь них просачивается слишком много света; или ночь — жара не дает мне спать, шум плывет в гору по улице Арибау, через открытый балкон ветерок доносит снизу запах платанов, зеленых и пыльных. Политые водой тротуары и множество людей, пьющих в кафе прохладительные напитки, — это тоже Барселона. Все остальное — ярко освещенные магазины, машины, шум и звон, все, вплоть до вчерашней поездки с вокзала, которая тоже что-то прибавила к моему ощущению этого города, — все это было чужое, ненастоящее; оно было сооружено искусственно, чересчур тщательно отделано и потому потеряло изначальную свежесть.