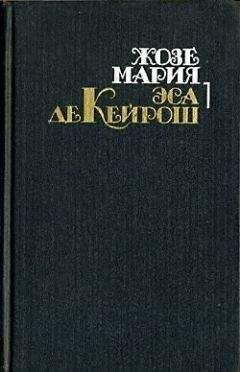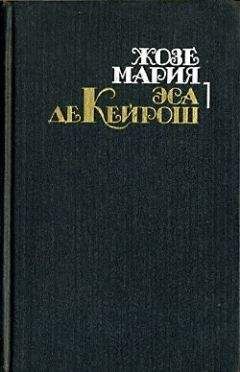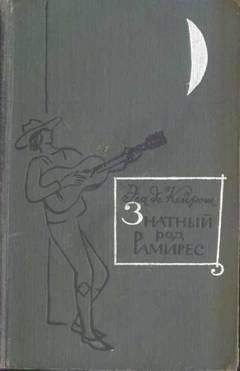Жозе Эса де Кейрош - Новеллы
Еле притронувшись к ужину, дон Алонсо вернулся в галерею и вновь приковался взором к окнам дона Руя. Теперь они были закрыты и в последнем, угловом, мерцал огонек. Всю ночь бодрствовал дон Алонсо, без конца терзаемый все той же неразрешимой загадкой. Как мог избежать смерти человек, чье сердце было пронзено кинжалом? Как могло такое случиться? Едва забрезжил рассветный луч, дон Алонсо надел плащ, широкополую шляпу, вышел из дворца в церковный двор и, плотно окутанный плащом, надвинув низко на лоб шляпу, стал прохаживаться перед домом дона Руя. Колокола зазвонили к заутрене. Торговцы в небрежно застегнутых кожаных куртках открывали лавки, раскладывали товар. Зеленщики, погоняя ослов, нагруженных корзинами, расхваливали свежие овощи и зелень, босоногие монахи с котомкой за плечами просили милостыню и раздавали благословения.
Набожные прихожанки с закрытыми покрывалом лицами, в ожерельях крупных черных четок торопливо входили в церковь. Городской глашатай, остановившись в углу двора, протрубил в рог и зычным голосом принялся читать объявление.
Сеньор де Лара замер у фонтана, словно вслушиваясь в пение водяных струй. Ему пришло на ум, что объявление, читаемое городским глашатаем, верно, касается дона Руя, его исчезновения… Он бросился к тому месту, где стоял глашатай, но тот уже, свернув пергамент, торжественно удалялся, стуча о каменные плиты своим блестящим жезлом. Дон Алонсо вернулся на прежнее место, чтобы снова наблюдать за домом дона Руя, как вдруг его изумленный взор натолкнулся на него самого, на дона Руя, которого он убил и который направлялся теперь в церковь Девы Марии, юный и благородный, сияя лицом, обращенным навстречу утренней свежести, в светлом камзоле, в шляпе с белыми перьями, держа одну руку у пояса, а другой рассеянно играя тростью с золотыми кистями.
Тогда дон Алонсо старческой походкой, волоча ноги, побрел к себе во дворец. Поднимаясь по лестнице, он встретил старого капеллана, который пришел засвидетельствовать ему свое почтение и который, пройдя с ним в приемную и учтиво осведомившись о доне Леонор, рассказал дону Алонсо об удивительном происшествии, вызвавшем в городе великое потрясение и толки. Накануне вечером коррехидор, обходя виселицы на Холме Повешенных, поскольку приближался праздник святых апостолов, с изумлением и негодованием обнаружил, что у одного из повешенных грудь пронзена кинжалом! Была ли это проделка злого шутника? Или месть, не удовлетворенная даже смертью?.. И еще диковинней, что тело явно было кем-то снято с виселицы и его волочили не то по саду, не то по огороду (на старых лохмотьях покойника виднелись прилипшие свежие листья), а потом оно снова было повешено, на новой веревке!.. Ах, каковы времена, ежели даже мертвые подвергаются поруганию!
Дон Алонсо слушал, содрогаясь и чувствуя, как волосы у него встают дыбом. В неимоверном волнении бросился он, крича и наталкиваясь на двери, вон из дворца, чтобы своими глазами удостовериться в осквернении покойника. На двух наскоро оседланных мулах дон Алонсо и объятый ужасом капеллан, которого сеньор де Лара увлек за собой, поспешили к Холму Повешенных. На Холме уже собралась толпа жителей Сеговьи, потрясенных невиданным кощунством: мертвец, умерщвленный кем-то вторично!.. Толпа расступилась перед знатным сеньором де Лара, который устремился на вершину холма и, побелев и почти лишившись чувств, впился глазами в покойника и кинжал, проткнувший грудь несчастного. Это был его кинжал, — значит, это он убил мертвеца!
В ужасе вскочил он на мула и умчался в Кабриль. И укрылся там со своей страшной тайной. Вскоре начал он бледнеть и чахнуть, прятался ото всех в садовых закоулках, пуще всех избегая дону Леонор, разговаривал сам с собой, пока однажды утром в день святого Жоана одна из служанок, возвращаясь от родника с кувшином, не нашла дона Алонсо мертвым. Он лежал на земле под каменным балконом, и скрюченные пальцы его застыли на клумбе с левкоями, где, похоже было, он долгое время разрывал руками землю, пытаясь…
VЧтобы отрешиться от столь печальных воспоминаний, сеньора дона Леонор, наследовавшая все богатства рода де Лара, возвратилась в свой дворец в Сеговье. Зная о том, что сеньор дон Руй чудесным образом избежал ловушки в Кабриле, и каждое утро следя за ним сквозь полуопущенные жалюзи глазами, которые не уставали смотреть на него и увлажнялись, когда он пересекал двор, чтобы войти в церковь, дона Леонор, опасаясь нетерпения и торопливости своего сердца, не дозволяла себе посещать церковь все то время, пока длился ее траур. Но в одно прекрасное воскресное утро, когда вместо черного крепа она уже могла облечься в лиловый шелк, дона Леонор спустилась по лестнице своего дворца, бледная от доселе неведомого ей чудесного волнения, и, пройдя по каменным плитам двора, вошла в церковь. Дон Руй де Карденас стоял на коленях перед алтарем, где лежали приносимые им неукоснительно, по обету, белые и красные гвоздики. При шорохе тонких шелков он поднял глаза в ожидании чистом и исполненном невинной прелести — словно его окликнул ангел. Дона Леонор преклонила колена с ним рядом, сердце ее разрывалось от волнения; она была бледнее, чем воск горевших свечей, и счастливее, чем ласточки, свободно кружившие под сводами старой церкви.
Пред сим алтарем, коленопреклоненными на сих каменных плитах, они были обвенчаны епископом Сеговийским доном Мартиньо, осенью благословенного года 1475, когда Кастилией уже правили Изабелла и Фердинанд, славные короли и добрые католики, коих сподобил господь исполнить великие деяния на суше и на море.
ЖОЗЕ МАТИАС[32]
Дивный вечер, друг мой!.. Я жду выноса тела Жозе Матиаса — Жозе Матиаса де Албукерке, племянника виконта де Гармилде… Вы, мой друг, безусловно, его знавали — такой изысканный молодой человек, белокурый, как пшеничный колос, с закрученными вверх усами странствующего рыцаря и безвольным, слабо очерченным ртом. Истинный дворянин с утонченным и строгим вкусом. Ум пытливый, одержимый важнейшими идеями века и такой острый, что постиг мою «Защиту гегельянской философии». Этот образ Жозе Матиаса относится к 1865 году, так как последний раз я столкнулся с ним морозным январским вечером в одном из подъездов на улице Сан-Бенто; он был одет в медового цвета, изорванный на локтях сюртук, дрожал от холода, и от него отвратительно пахло водкой.
Помнится, вы, мой друг, и Кравейро однажды, когда Жозе Матиас проездом из Порто задержался в Коимбре, даже поужинали с ним в Пасо-де-Конде! В то время Кравейро, чтобы поддержать спор между Школой пуристов и Сатанинской школой, писал свой труд «Сатанические насмешки и скорбь». Вам тогда он прочел свой сонет, полный мрачного идеализма, «Сердце в клетке груди моей…». Я вспоминаю Жозе Матиаса, не отрывающего глаз от горящих в канделябрах свеч, в широком, торчащем из-под жилета льняного полотна галстуке из черного атласа, чуть заметно улыбающегося тому, чье сердце рычало в грудной клетке. Это было апрельским вечером, на небе светила полная луна. Потом мы все вместе прогуливались по тополиной аллее и мосту. Жануарио чувствительно пел печальные романтические песни того времени:
Вчера вечером на закате
Ты смотрела молчаливо,
Как вскипал поток бурливый
У твоих девичьих ног.
Жозе Матиас стоял, облокотившись на парапет моста и устремив глаза и душу клуне. Почему же вы, мой друг, не хотите проводить столь интересного молодого человека на кладбище Блаженство? У меня, как подобает преподавателю философии, наемный экипаж с номером. Что? Светлые брюки! О, мой любезный! Из овеществленных форм сочувствия самая, пожалуй, грубо вещественная — черный кашемир. А ведь тот, кого мы провожаем в последний путь, был спиритуалист — человек возвышенной души.
Из церкви выносят гроб. Всего три экипажа сопровождают его на кладбище. Но, друг мой, по правде говоря, Жозе Матиас умер шесть лет тому назад в полном расцвете сил. Этот же, в обшитых желтыми лентами досках, мало похожий на него труп пьяницы без имени и прошлого, которого февральский холод, сам того не желая, убил в подъезде.
Субъект в золотых очках в двухместном экипаже?.. Право, не знаю. Возможно, богатый родственник, который, как правило, появляется на похоронах с траурной лентой, свидетельствующей о родственных связях, теперь, когда покойник не может ни докучать, ни компрометировать. Тучный желтолицый мужчина, сидящий в витории, — Алвес Мерин, издатель журнала «Шпилька». К сожалению, страницы его журнала скупятся на философские статьи. Что было общего у Алвеса Мерина с Жозе Матиасом? Не знаю. Может быть, пили в одних и тех же кабаках, а может, Жозе Матиас последнее время сотрудничал в «Шпильке»? Или очень может быть, за толстым слоем сала и такой же сальной литературой скрывается чувствительная душа? Теперь наша колымага… Хотите, чтобы я опустил окно? Сигарету?.. Спички… Так вот… Жозе Матиас на подобных мне, которые в жизни отдают предпочтение логике и требуют, чтобы колос вырастал непременно из зерна, производил удручающее впечатление. Еще в Коимбре мы считали его возмутительно пошлым. Возможно, такое мнение рождала его ужасающая аккуратность. Никогда никакого изъяна в одежде! Никакой легкомысленной пыли на штиблетах! Ни одного непокорного волоска на голове или в усах, всегда так безупречно расчесанных, что это нас приводило в уныние. Кроме того, из нашего пылкого поколения он был единственным интеллектуалом, который прочел без трепета и слез «Созерцания», не кричал о нищете Польши и остался безразличен к ранам Гарибальди. И вместе с тем Жозе Матиаса нельзя было упрекнуть в черствости, жестокости, эгоизме или холодности. Отнюдь. Приятный собеседник, всегда сердечный, приветливо улыбающийся. Непоколебимое спокойствие, казалось, шло от его непомерного легкомыслия. И в то же время прозвище «Матиас — Беличье Сердце», которое мы дали этому юноше, такому приятному, такому белокурому и такому несерьезному, было и справедливым и точным. Когда Жозе Матиас окончил университет и за смертью отца последовала смерть матери, изящной, красивой женщины, оставившей ему наследство в пятьдесят конто, он отбыл в Лиссабон к брату матери — генералу виконту де Гармилде, чтобы скрасить одиночество боготворившего его дяди. Друг мой, вы не можете не помнить этот безупречный классический образец генерала с неизменными, устрашающе напомаженными усами, панталонами цвета розмарина, туго натянутыми при помощи шнурков на сверкающие сапоги, с хлыстом под мышкой, конец которого, казалось, еще дрожал и готов был исхлестать весь мир. Гротескный воин и невероятный добряк, генерал Гармилде жил тогда в Арройосе, в старинном, изукрашенном изразцами особняке с садом, в котором он самозабвенно выращивал лилии на высоких клумбах. Этот сад поднимался вверх уступами до увитой плющом стены, она, в свою очередь, отделяла сад Гармилде от другого сада — большого и красивого розария советника Матоса Миранды, чей дом под названием «Виноградная лоза», с открытой террасой, крышу которой поддерживали две желтые башенки, высился на вершине холма. Друг мой, вам, безусловно, известна (по крайней мере так же, как Елена Прекрасная или Инес де Кастро) красавица Элиза Миранда, Элиза «Виноградной лозы»… Она была само совершенство. Романтическая красавица Лиссабона конца Возрождения. Но… Лиссабон имел счастье видеть ее, лишь заглядывая в окна ее коляски, или праздничным вечером в самодовольной веселящейся толпе на Пасейо-Публико, или на балах Ассамблеи Кармо, почетным распорядителем которых был Матос Миранда. Богиня редко покидала Арройос и показывалась на глаза смертным. Была ли тому причиной провинциальная страсть к домоседству, приверженность к тем слоям буржуазии, которая в Лиссабоне все еще неукоснительно блюла старинные обычаи, ведя затворническую жизнь, или она не смела ослушаться отеческого запрета мужа — уже шестидесятилетнего диабетика? Однако Жозе Матиас с удивительной легкостью и даже неизбежностью постоянно наслаждался ее красотой, с того самого момента, как обосновался в Лиссабоне, так как маленький дворец его дяди, генерала Гармилде, был расположен на складке холма, как раз у подножия сада и дома «Виноградная лоза». Стоило божественной Элизе выглянуть в окно, выйти на террасу или сорвать розу в буксовой аллее, как она тотчас же попадала в поле зрения Жозе Матиаса, тем более что ни одно дерево ни в том, ни в другом саду своими ветвями не препятствовало этому. Уверен, что вы, друг мой, как и все мы, посмеивались над этими избитыми, но бессмертными строками: