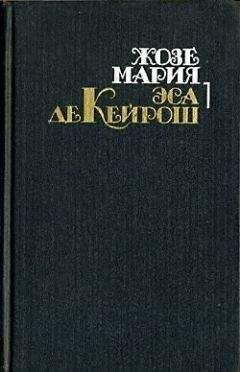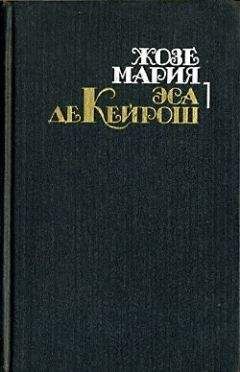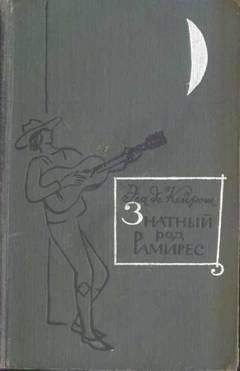Жозе Эса де Кейрош - Новеллы
Из церкви выносят гроб. Всего три экипажа сопровождают его на кладбище. Но, друг мой, по правде говоря, Жозе Матиас умер шесть лет тому назад в полном расцвете сил. Этот же, в обшитых желтыми лентами досках, мало похожий на него труп пьяницы без имени и прошлого, которого февральский холод, сам того не желая, убил в подъезде.
Субъект в золотых очках в двухместном экипаже?.. Право, не знаю. Возможно, богатый родственник, который, как правило, появляется на похоронах с траурной лентой, свидетельствующей о родственных связях, теперь, когда покойник не может ни докучать, ни компрометировать. Тучный желтолицый мужчина, сидящий в витории, — Алвес Мерин, издатель журнала «Шпилька». К сожалению, страницы его журнала скупятся на философские статьи. Что было общего у Алвеса Мерина с Жозе Матиасом? Не знаю. Может быть, пили в одних и тех же кабаках, а может, Жозе Матиас последнее время сотрудничал в «Шпильке»? Или очень может быть, за толстым слоем сала и такой же сальной литературой скрывается чувствительная душа? Теперь наша колымага… Хотите, чтобы я опустил окно? Сигарету?.. Спички… Так вот… Жозе Матиас на подобных мне, которые в жизни отдают предпочтение логике и требуют, чтобы колос вырастал непременно из зерна, производил удручающее впечатление. Еще в Коимбре мы считали его возмутительно пошлым. Возможно, такое мнение рождала его ужасающая аккуратность. Никогда никакого изъяна в одежде! Никакой легкомысленной пыли на штиблетах! Ни одного непокорного волоска на голове или в усах, всегда так безупречно расчесанных, что это нас приводило в уныние. Кроме того, из нашего пылкого поколения он был единственным интеллектуалом, который прочел без трепета и слез «Созерцания», не кричал о нищете Польши и остался безразличен к ранам Гарибальди. И вместе с тем Жозе Матиаса нельзя было упрекнуть в черствости, жестокости, эгоизме или холодности. Отнюдь. Приятный собеседник, всегда сердечный, приветливо улыбающийся. Непоколебимое спокойствие, казалось, шло от его непомерного легкомыслия. И в то же время прозвище «Матиас — Беличье Сердце», которое мы дали этому юноше, такому приятному, такому белокурому и такому несерьезному, было и справедливым и точным. Когда Жозе Матиас окончил университет и за смертью отца последовала смерть матери, изящной, красивой женщины, оставившей ему наследство в пятьдесят конто, он отбыл в Лиссабон к брату матери — генералу виконту де Гармилде, чтобы скрасить одиночество боготворившего его дяди. Друг мой, вы не можете не помнить этот безупречный классический образец генерала с неизменными, устрашающе напомаженными усами, панталонами цвета розмарина, туго натянутыми при помощи шнурков на сверкающие сапоги, с хлыстом под мышкой, конец которого, казалось, еще дрожал и готов был исхлестать весь мир. Гротескный воин и невероятный добряк, генерал Гармилде жил тогда в Арройосе, в старинном, изукрашенном изразцами особняке с садом, в котором он самозабвенно выращивал лилии на высоких клумбах. Этот сад поднимался вверх уступами до увитой плющом стены, она, в свою очередь, отделяла сад Гармилде от другого сада — большого и красивого розария советника Матоса Миранды, чей дом под названием «Виноградная лоза», с открытой террасой, крышу которой поддерживали две желтые башенки, высился на вершине холма. Друг мой, вам, безусловно, известна (по крайней мере так же, как Елена Прекрасная или Инес де Кастро) красавица Элиза Миранда, Элиза «Виноградной лозы»… Она была само совершенство. Романтическая красавица Лиссабона конца Возрождения. Но… Лиссабон имел счастье видеть ее, лишь заглядывая в окна ее коляски, или праздничным вечером в самодовольной веселящейся толпе на Пасейо-Публико, или на балах Ассамблеи Кармо, почетным распорядителем которых был Матос Миранда. Богиня редко покидала Арройос и показывалась на глаза смертным. Была ли тому причиной провинциальная страсть к домоседству, приверженность к тем слоям буржуазии, которая в Лиссабоне все еще неукоснительно блюла старинные обычаи, ведя затворническую жизнь, или она не смела ослушаться отеческого запрета мужа — уже шестидесятилетнего диабетика? Однако Жозе Матиас с удивительной легкостью и даже неизбежностью постоянно наслаждался ее красотой, с того самого момента, как обосновался в Лиссабоне, так как маленький дворец его дяди, генерала Гармилде, был расположен на складке холма, как раз у подножия сада и дома «Виноградная лоза». Стоило божественной Элизе выглянуть в окно, выйти на террасу или сорвать розу в буксовой аллее, как она тотчас же попадала в поле зрения Жозе Матиаса, тем более что ни одно дерево ни в том, ни в другом саду своими ветвями не препятствовало этому. Уверен, что вы, друг мой, как и все мы, посмеивались над этими избитыми, но бессмертными строками:
То было осенью, когда образ твой
Сиял под луной…
И вот, как в этой строфе, осенью, в октябре месяце, возвратясь с побережья Эрисейры, бедный Жозе Матиас ночью при свете луны увидел на террасе дома «Виноградная лоза» Элизу Миранда. Друг мой, вряд ли вам довелось видеть такой утонченный, обаятельный образ красавицы в стиле Ламартина. Высокая, статная, в то же время гибкая, достойная библейского сравнения, — пальма на ветру. Волосы смоляные, блестящие и густые, собранные в волнистые пряди. Кожа цвета только что распустившейся камелии. Глаза черные, влажные, кроткие и печальные, опушенные длинными ресницами. Ах! Друг мой, после одного дождливого вечера, увидев ее в ожидании кареты у подъезда Сейшасов, даже я, так усердно конспектировавший Гегеля, три дня неотступно думал о ней, боготворя в мыслях, и посвятил ей сонет! Не знаю, посвящал ли ей сонеты Жозе Матиас. Однако все мы очень скоро стали свидетелями глубокой, сильной и совершенной любви, вспыхнувшей в ту осеннюю ночь при свете луны в сердце, которое в Коимбре мы считали беличьим!
Нет сомнений, что такой скромный и тихий молодой человек не вздыхал открыто, не делал свою страсть всеобщим достоянием. Он, как мог, скрывал свою любовь. Меж тем еще во времена Аристотеля утверждали, что любовь и дым нельзя скрыть; и скоро любовь нашего скрытного Жозе Матиаса стала, подобно легкому дыму, просачиваться сквозь невидимые щели охваченного пожаром дома. Очень хорошо помню, как, возвратившись из Алентежо, я навестил его в Арройосе. Был июльский воскресный день. Он собирался поужинать у своей проживавшей в Бенфике двоюродной бабушки доны Мафалды Норонья, в поместье Кедров, где по воскресным дням имели обыкновение ужинать Матос Миранда и божественная Элиза. Думаю, что только здесь, в этом поместье, где задумчивые тополиные аллеи и укромные затененные уголки с легкостью предоставляли им эту возможность, и встречались Элиза и Жозе Матиас. Окна комнаты Жозе Матиаса выходили как в сад Матиасов, так и в сад Миранды. Когда я вошел, он с невозмутимым спокойствием заканчивал свой туалет. Никогда я не видел, друг мой, лицо, излучающее такое безмятежное, неизменное счастье! Он улыбался такой просветленной, идущей из самых глубин души улыбкой, когда обнимал меня; улыбался не менее радостно и позже, когда я ему рассказывал свои алентежские неприятности; улыбался восторженно, радуясь теплу, и рассеянно вертел сигару; улыбался все время, упоенно, с особым тщанием выбирая в выдвижном ящике комода галстук белого шелка. И ежеминутно, сам того не замечая, как не замечаем мы, что моргаем, трогательно-нежно поглядывал, продолжая улыбаться, на закрытые окна… Поймав один такой счастливый взгляд, я тут же обнаружил предмет, которому он был адресован: на веранде дома «Виноградная лоза», одетая в светлое платье, в белой шляпке, раздумчиво натягивая белые перчатки и тоже не оставляя без внимания окон моего друга, на которых косой луч солнца оставлял золотые блики, спокойно прохаживалась божественная Элиза. Жозе Матиас тем временем, все так же улыбаясь, разговаривал со мной, чуть слышно произнося какие-то любезные и ни к чему не обязывающие слова. Внимание его всецело было сосредоточено на булавке, украшенной кораллом и жемчугом, которой он, стоя перед зеркалом, закалывал галстук, и на белом жилете, который он застегивал и одергивал с благочестием молодого священника, облачающегося впервые в столу и стихарь, перед тем как предстать пред алтарем. Я никогда не видел, чтобы мужчина одевался и душил носовой платок одеколоном с таким упоением. А надев редингот и приколов великолепную розу, он с невыразимым волнением, не удерживая более радостного вздоха, подошел к окну. Introibo ad aliarem Deae![33] Я скромно продолжал сидеть на софе. И, друг мой любезный, поверьте, позавидовал этому молодому человеку, стоящему у окна неподвижно, во власти своего возвышенного поклонения, глаза, душа и все существо которого были устремлены туда, к ней, к одетой в белое женщине, натягивавшей светлые перчатки и абсолютно безразличной к окружающему ее миру, как будто мир этот был всего лишь попираемый ее ногами булыжник мостовой.