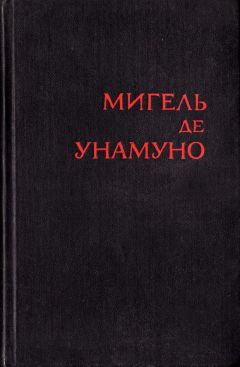Мигель Унамуно - Мигель де Унамуно. Туман. Авель Санчес_Валье-Инклан Р. Тиран Бандерас_Бароха П. Салакаин Отважный. Вечера в Буэн-Ретиро
— А разве неверно изречение, приписываемое одному генералу, что победа — это вера в то, что ты победил? — спросил я.
— Вот это и есть генеральная глупость. Наоборот, победа часто состоит в том, чтобы вообразить себя побежденным. Только дурак считает себя непобедимым. Вспомни, как здесь, у тебя на родине, во времена гражданских войн все эти жалкие безумцы прежде всего объявляли себя непобедимыми, ибо против веры, говорили они, не устоит никто, а потом, потерпев поражение, они вопили: «Предательство!» — или уверяли, будто морально они вышли победителями. «Если бы не…» — говорили они. Если бы да кабы, то во рту б росли грибы. Готовься к тому, что все чистые дураки запоют скоро на этот манер. И не забывай, теперь дураков уже не легион, но партия.
И опять Аугусто Перес растворился в черном облаке. И, проснувшись, я спросил себя: «Кто вносит порядок, логику и связь, то есть организует все это?»
Саламанка, октябрь 1915 г.
Авель Санчес
История одной страсти
Перевод Н. Б. Томашевского
{84}
После смерти Хоакина Монегро в бумагах покойного были обнаружены записи о темной, душераздирающей страсти, которою он терзался всю жизнь. Предлагаемая читателю история перемежается извлечениями из «Исповеди» — как озаглавил автор эти свои записи. Приводимые отрывки являются своего рода авторским комментарием Хоакина к одолевавшему его недугу. Отрывки из «Исповеди» выделены кавычками. «Исповедь» была обращена к дочери покойного.
I
Уж и не помнили Авель Санчес и Хоакин Монегро, когда они познакомились. А познакомились они в раннем детстве, почти в колыбели, когда кормилицы их сходились посудачить и сосунки лежали рядом, не умея еще сказать ни слова. Постепенно узнавая друг друга, они научились познавать себя. Так, с младенческих лет, росли они вместе, стали закадычными друзьями, почти молочными братьями.
В играх, прогулках, любых совместных затеях заводилой и верховодом был, казалось, более волевой Хоакин; однако ж на поверку все неизменно выходило по Авелю. И случалось это так потому, что важнее ему было не подпасть под влияние, чем приказывать. Они почти никогда не ссорились. «По мне, как хочешь!..» — говорил Авель Хоакину. И это «как хочешь», пресекавшее возможные споры, порой приводило Хоакина прямо-таки в бешенство.
— Почему ты никогда не скажешь «нет»? — злился Хоакин.
— А зачем? — отвечал его друг.
Однажды, когда компания ребят собралась на прогулку, Хоакин сказал:
— Прекрасно, но он не хочет идти в лес.
— Я? Почему не хочу? — воскликнул Авель. — Раз ты хочешь… Я готов…
— Э, нет, при чем тут хочу я или не хочу! Мне надоело! Хватит с меня этих «как хочешь»! Признайся, что ты не желаешь идти!
— Отчего же? Я вовсе не против…
— Зато я против…
— Ну что ж, тогда, пожалуй, и я не пойду…
— Этак я не желаю! — не выдержав, вскипел Хоакин. — Кто хочет — пусть идет с ним, кто хочет — остается со мной!
И все отправились с Авелем, оставив Хоакина одного.
Вспоминая этот случай из детства, Хоакин писал в своей «Исповеди»: «С тех самых пор, уж не знаю почему, все признали его милым и славным, а меня — противным и неприятным. Так я и рос в одиночестве. Товарищи избегали меня».
В институте, на подготовительных курсах, которые они посещали вместе, готовясь к сдаче экзаменов на бакалавра{85}, Хоакин отличался усидчивостью, стремлением к наградам и похвалам — словом, был первым в аудитории. Зато за пределами аудиторий первенствовал Авель: он был первым в университетском дворе, на улицах, на прогулках, на бое быков, в кругу товарищей. Авель смешил друзей своими милыми шутками, особенным же успехом пользовались его карикатуры на профессоров. «Хоакин прилежнее, но Авель куда способнее… Если бы он не ленился…» Это общее суждение товарищей, хорошо известное Хоакину, переполняло его сердце горечью. У Хоакина даже закралось желание забросить учение и посостязаться со своим соперником на том поприще, где Авель одерживал столь блистательные победы. Однако, поразмыслив здраво, — «ах, стоит ли считаться с глупцами!» — он решил твердо следовать врожденной своей склонности. К тому же, как Хоакин ни старался превзойти своего соперника в выдумках, остроумии и веселости, ничего у него не получалось. Шутки его не вызывали смеха, да и сам он продолжал слыть человеком на редкость угрюмым. «Твой юмор, — часто говаривал ему Федерико Куадрадо, — юмор висельника».
Когда оба они сдали бакалаврские экзамены, пути их разошлись. Авель решил посвятить себя живописи. Хоакин поступил на медицинский факультет. Виделись они по-прежнему часто и любили поболтать о своих успехах. Хоакин нередко пытался втолковать Авелю, что медицина — тоже искусство, и даже изящное искусство, требующее поэтического вдохновения. Порой же пускался в очернение изящных искусств, как расслабляющих разум, и восхвалял науку, которая возвышает, укрепляет и облагораживает человеческий дух истиной.
— Но ведь и медицина — сомнительная наука, — возражал тогда Авель. — Скорее это тоже искусство — искусство применять на практике выводы научных исследований.
— Но я вовсе не собираюсь заниматься лечением больных, — парировал Хоакин.
— А почему? Ведь это такое благородное и полезное занятие…
— Ты прав, конечно, но занятие это не для меня. Пусть оно будет самим благородством и самой пользой, но я презираю и это благородство, и эту пользу. Быть может, для иных щупать пульс, смотреть язык и выписывать рецепты — недурной способ зарабатывать деньги. Я же мечу на большее…
— На большее?
— Да, я надеюсь проторить новые пути. Хочу посвятить себя научным занятиям. Подлинная слава в медицине принадлежит тем, кто открывает секрет какой-нибудь болезни, а не тем, кто с большим или меньшим успехом применяет на практике это открытие…
— Мне нравится твоя одержимость.
— А ты думал, только вы, художники, живописцы, грезите о славе?
— Чудак, кто тебе сказал, что я мечтаю о славе?..
— Как кто сказал? А для чего же ты в таком случае занялся живописью?
— Видишь ли, овладей я достаточно этой профессией, она даст мне…
— Что она тебе даст?
— Приличный достаток.
— Другим рассказывай сказки, Авель. Тебя-то я знаю еще с пеленок. Меня не проведешь! Я тебя знаю.
— А разве я когда-нибудь пытался тебя обмануть?
— Нет, но можно обманывать и бессознательно. Ты ведь только делаешь вид, будто тебя ничто не касается, будто жизнь для тебя — игрушка, будто ты поплевываешь на все. На самом же деле ты чудовищно честолюбив…
— Я — честолюбив?
— Да, да, честолюбив! Ты обожаешь славу, успех, похвалы… Ты сызмальства был честолюбив. Но только ты скрытничал и лицемерил.
— Послушай, Хоакин, и скажи по совести: разве я оспаривал у тебя награды? Разве ты не был всегда первым в классе? Мальчиком, подающим надежды?..
— Это правда, но всеобщим любимцем, которого все готовы были на руках носить, был ты, а не я…
— А разве в этом моя вина?..
— Неужели ты хочешь заставить меня поверить, будто ты не искал популярности?..
— Уж если на то пошло, то это ты ее домогался…
— Я? Я? Я презираю людей, а потому презираю и успех!
— Ну будет, будет тебе! Давай оставим этот глупый разговор. Лучше расскажи мне о своей невесте.
— Невесте?
— Ну да, о твоей кузине, которую ты хотел бы видеть своей невестой.
Хоакин, желая овладеть сердцем Елены, вкладывал в свои домогательства весь пыл своей целеустремленной и подозрительной души. И вполне понятно, что неизбежными в таких случаях душевными излияниями он делился со своим другом Авелем.
Любовь была мучительной. Елена заставляла его так страдать!
— С каждым днем я все меньше понимаю ее, — жаловался он Авелю. — Эта девушка для меня — сфинкс…
— А знаешь, что говорил в подобных случаях Оскар Уайльд{86}? Да, кажется, он. Всякая женщина — это сфинкс без загадки.
— А вот в Елене есть загадка. Похоже на то, что она тайно в кого-то влюблена. Убежден, что она любит другого.
— Почему ты так думаешь?
— Иначе я не могу объяснить ее поведения со мной…
— То есть только потому, что она не хочет тебя любить… любить как жениха, хотя как кузена она, быть может, и любит тебя…
— Оставь свои шуточки!
— Но рассуди сам: лишь только потому, что она не хочет полюбить тебя как жениха, или, точнее, как мужа, она непременно должна быть влюблена в кого-то другого? Хороша логика!
— Я знаю, что говорю!
— Зато я знаю тебя.
— Ты?
— Конечно! Разве ты не претендуешь на то, что знаешь меня лучше всех? Так что же удивительного, если и я думаю, что знаю тебя? Мы ведь знаем друг друга одинаково давно.