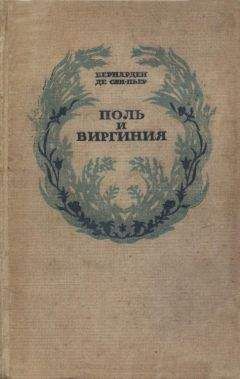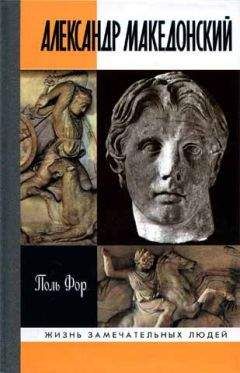Грубиянские годы: биография. Том I - Поль Жан
Как порожденная духом иллюзия, исчезло теперь Adagio, и грубые хлопки аплодисментов стали нижним вводным тоном к Presto. Но для нотариуса это последнее было лишь упрощенным продолжением Adagio, которое как бы упраздняло само себя, – а не английским фарсом после английской трагедии. Вальт пока не видел Вину; ею могла быть та дама в длинном голубом одеянии, что сидела рядом с другой, обращенной к нему спиной, которая, судя по головному убору с перьями и ясно различимому голосу – громко хвалившему музыку, хотя концерт еще не закончился, – принадлежала Рафаэле; но кто же угадает, правда ли это? Готвальт, при наличии такого множества прекрасных миров, во время исполнения престиссимо оглядывал верхние и нижние ряды, этот звездный небосклон женственности, и почти всех его представительниц мысленно прижимал к груди: сперва тех, что были одеты в черное, потом – белых, потом – всех остальных. Музыка невероятно усилила его симпатию к незамужним барышням; он слышал звон монет преклонения, которые сам же и бросал к их ногам. «Я бы мог, бледненькая моя, – думал он, ничуть не робея, – украсить тебя слезами радости и небесной лазурью – а с тобой, моя пылкая розочка, я бы хотел станцевать под это Presto… А ты, синеглазка, будь это в моей власти, прямо не сходя с места преисполнилась бы блаженства и научилась бы черпать мед из белых роз меланхолии… А тебя, кроткая, я бы поставил превыше Геспера и Луны и хотел бы, чтобы мне или кому-то другому удалось завоевать твое сердце… А вам, маленькие светлоглазые шалуньи, четырнадцати- и пятнадцатилетние, я бы с радостью подарил несколько танцзалов, целиком заполненных шкафами с нарядами… О, нежнейшие барышни, если бы я мог хоть ненадолго перевоплотиться в Судьбу, как бы я любил вас и баловал! И как только грубое время решается мучить ваши сладкие щечки и глазки, делать их повлажневшими от слез, постаревшими, почти угасшими? —
Такой текст Вальт подкладывал под престиссимо.
Поскольку он уже много лет от всего сердца желал увидеть слезы в глазах благородной и изящно одетой женщины – ибо не мог представить себе более чистой воды для сих твердых алмазов, более золотого дождя и более красивых увеличительных линз сердца, то он стал оглядывать сидящих на скамьях барышень в поисках этих вечно скатывающихся вниз световых и небесных шариков, этих зениц наших глаз; но – поскольку барышни, когда принарядятся, плачут исключительно редко – не нашел ничего, кроме вывешенных вымпелов плача: носовых платков. Однако для нотариуса уже такой платок, сам по себе, был слезой, и он почувствовал себя совершенно удовлетворенным.
Наконец начались принятые теперь на всех концертах каникулы для слуха: разговорные минуты, в которые человек впервые осознает, что находится на концерте, – потому что может теперь слегка размять ноги, сказать свое слово, растопить свое сердце и то, что замерзло на языке. «Кто, черт возьми…» – очень уместно рассуждает Вульт в одном из экстренных выпусков романа «Яичный пунш, или Сердце», а именно в том, что озаглавлен:
Vox humana-концерт…
«Кто, черт возьми, долго выдерживал бы музыкальное или поэтическое искусство, если бы не существовало чего-то поддерживающего, за что можно держаться? То и другое прекрасно, но это лишь великолепные цветы, лежащие поверх окорока, от которого хотелось бы откусить кусочек. Искусство и манна небесная – которые когда-то были пищей – теперь используются как слабительные средства, когда нам случается испортить себе желудок удовольствиями или пороками. Концертный зал, по своему предназначению, – это прежде всего переговорная комната; женские уши созданы для улавливания тихого шепота соперницы или подруги, а не громких звуков музыкальных инструментов; так же и нос собаки, согласно Бехштейну, настроен не на улавливание приятных запахов, а только на запахи враждебных или знакомых людей. Клянусь Богом, в концертном зале люди – помимо слушания музыки – хотят еще и сказать что-то, если уж там не удается потанцевать. (В маленьких городках концерт как раз и представляет собой бал, и ни одно исполнение музыкального произведения не обходится без сферического танца небесных тел.) Поэтому органные трубы и скрипки на самом деле играют второстепенную роль и им следовало бы подавать голос – как мельничному колокольчику – лишь тогда, когда двум жерновам или двум человеческим головам больше нечего измельчать. Но происходит как раз наоборот – вынужден я посетовать, хотя сам охотно сделал бы так, чтобы немного музыки предшествовало концерту, ведь и в церквях сперва бьют колокола и звучит церковная музыка, а уж потом на кафедру поднимается проповедник: промежутки времени, отводимые на музыку, намного превосходят по протяженности переговорные промежутки, и получается порой, что кто-то из сидящих в зале делается сперва глухим, а потом и немым, хотя нет ничего легче, чем посредством музицирования подвигнуть людей, как поступают с канарейками, к говорению, поскольку люди ни при каких обстоятельствах не говорят так долго и так громко, как под звуки застольной музыки. – Если же по-настоящему взяться за это дело с более важной стороны, учитывая, что люди на концерте должны чем-то наслаждаться, будь то пиво, или чай, или выпечка: ты должен, если видишь, что музицирование длится дольше, чем здравицы, или музыка духовых инструментов, коей положено сопровождать застолья при дворе, длится дольше, чем застолье как таковое, или что звяканье мельничного колокольчика по длительности превосходит работу челюстей-жерновов…»-и так далее; ибо яичному пуншу место в собственной книге, а не в этой.
Теперь, когда весь новый для нотариуса мир и гемисфера красавиц развернулись и поднялись на ноги, настало время отыскать Вину. Рафаэла уже стояла лицом к Вальту, но ее небесно-голубая соседка еще сидела в ряду перед ней. Нотариус в конце концов напрямую спросил о Вине у Пасфогеля.
– Да вот же она, – ответил придворный книготорговец, – рядом с мадемуазель Нойпетер – в небесно-голубом, расшитом серебром платье – с нитями жемчуга в волосах, – она бывала при дворе… Сейчас она поднимается – и в самом деле поворачивается к нам. Не знаю, представимы ли более черные глаза и более овальное лицо, – хотя и понимаю, вместе с тем, что ее не назовешь красавицей в строгом смысле: например, у нее заостренный нос и змеящаяся линия решительных губ… Но в остальном, о небо!
Едва Вальт взглянул на юную деву, сила, властвующая над землей, изрекла: «Она будет его первой и последней любовью, что бы ему ни довелось претерпеть». Несчастный почувствовал укус летучей змеи, Амура, и содрогнулся, возгорелся, затрепетал, и его отравленное сердце расширилось. Ему даже в голову не пришло, что Вина красива, или принадлежит к высшему сословию, или как раз и есть та невеста с примулами из его детства, или что она стала теперь невестой графа; а только казалось, будто любимая вечная богиня, которая до сих пор была надежно заключена внутри его сердца и дарила его духу блаженство, и святость, и красоту, – будто теперь эта богиня вышла из его груди через рану и стоит теперь, как внешнее по отношению к нему небо, далеко от него (ох! всё является далью, любая близь), и цветет сияющим, внеземным цветением перед его одиноким раненым духом, покинутым ею, но не умеющим обходиться без нее.
Теперь Вина с прицепившейся к ней Рафаэлой, которая с самонадеянной фамильярностью пожелала двигаться сквозь толпу вместе с ней, направилась в сторону Вальта. Когда она проходила мимо, почти вплотную к нему, и он увидел вблизи ее опущенные долу черные колдовские очи, которые только у евреек бывают такими же красивыми (но не столь безмятежными – похожими на мигающие звезды, у нее же – на струящую мягкий свет Луну), очи, которые стыдливая любовь наполовину скрыла веками, словно повязкой Амура: в этот момент Вальт невольно отступил назад, и телесная боль проникла в его сердце, будто оно переполнилось.
Поскольку на Земле всё движется так убого-медленно, за исключением ее самой, и поскольку даже небо рассеивает свои рейнские водопады на сотни незначительных ливней, постольку должно считать блаженным счастливцем человека, подобного Вальту, который не видит, как с сотен алтарей взлетает феникс любви и красоты, давно обратившийся в пепел, но зато совершенно нежданно его задевает крылом по лицу золотая, переливающаяся всеми красками птица. Ни газетчика, внезапно увидевшего перед собой Бонапарта, ни критически настроенного магистра философии, с которым внезапно заговорил бы сам Кант, удар счастья не поразил бы с большей силой.