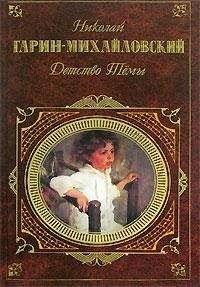Николай Гарин-Михайловский - Гимназисты
Смутное сознание шевельнулось, что это надо, как и большинство житейских «надо», останется там где-то, в эмпиреях, а жизнь пойдет своим чередом.
Он опять погрузился в чтение.
«А что, собственно, мешает мне это „надо“ выполнить? Положим, я женюсь… мне девятнадцать лет. Надо бросить гимназию? Ну, что ж, буду жить своим трудом. Ну, что ж? Тридцать рублей в месяц. Это одному, а с Фроськой? Но что я буду с ней делать?! Что такое, в сущности, „надо“ и где масштаб этого „надо“? Общеходячий! Та петля, которая в конце концов удушит его? Если даже с точки зрения естественной взять вопрос вырождения рода… Какой он отец, когда уже сам он отравленный алкоголик? Нет сомнения, что он будет таким же пьяницей, как и отец его… С той разницей, что в свободные минуты он будет продолжать свою альтруистическую работу, а отец затягивается в петлю. С Фроськой эта петля будет еще ужаснее!»
Он опять прогнал все свои мысли и сосредоточился на чтении.
«В сущности, я же не люблю ее?!» – мелькнуло и холодом ужаса охватило Берендю.
«А что общего между мной и ребенком?! Что общего между ней и моим ребенком?! Ребенок не мой и не ее».
Платон прав… Платон?! Он и Платон, их мысли сошлись. Мысли великого будущего! Берендя так и замер над раскрытой книгой, облокотившись на локоть, со взглядом, устремленным в дыру старой простыни…
– О-о-ой! – взвыл Корнев, приседая у входа.
Из-за Корнева выглядывало веселое лицо Карташева.
Фигура Беренди в ворохе сена, книги, оригинальный навес, взгляд Беренди – глубокомысленного, невозмутимо созерцающего основы будущего мира философа, – от всего этого веяло такой своеобразной новизной и свежестью, так отвлекало от прозы действительности, что Корнев и Карташев забыли и о восьмом классе, и о скуке, которую несли было Беренде, и испытывали только одну радость свидания с Диогеном. Было смешно видеть Берендю в такой обстановке, было приятно его увидеть, было просто весело быть опять всем втроем вместе.
После бурного здорованья Берендя усадил товарищей на скамью и, точно отыскивая, чем бы их угостить, схватил свою тетрадь и, проговорив: «С…слушайте», – начал читать. Товарищи пытались было перебить его, но Берендя упорно продолжал свое чтение, и Корнев с Карташевым терпеливо слушали.
– «В аскетических письмах Гоголя все тот же дух, побуждавший некогда сибирских раскольников сжигать себя. Эти люди имели в себе все качества души, которыми некогда прославляли себя и спасали отечество от варваров и Муций Сцевола, и Деций Мус, и все страдальцы новой цивилизации. Увы! Не сибирских аскетов, не Гоголя вина, что они схватились за ложные средства, saeculi vitia non hominis – пороки эпохи, а не человека. И пока не изменятся понятия и привычки общества, едва ли удастся кому бы то ни было при всех возможных анализах собственной души изменить те привычки, которые поддерживаются требованиями общества, обстановкой нашей жизни, и отказаться от дурных привычек, господствующих в обществе, увы, точно так же нельзя, как и нарушить хорошие привычки, утвердившиеся в обществе.
Итак, лучше всего не в себе, а в общих условиях жизни искать, чем, какими обстоятельствами и отношениями порождены и поддерживаются пороки. И пока эти обстоятельства и отношения, порождающие пороки, существуют, до тех пор бессильны единицы: на долю толпы достается тупая, прозябательная жизнь, а на долю единиц – страдания. И чем выше эти единицы, тем ужаснее их конец. Легок и весел был характер Пушкина, а уж на тридцатом году изнемогает он нравственно и умирает через несколько лет. Помянем и Лермонтова:
За все, за все тебя благодарю я:
За жар души, растраченный в пустыне,
За все, чем я обманут в жизни был…
Кольцов?!
В душе страсти огонь
Разгорался не раз,
Но в бесплодной тоске
Он сгорел и погас.
Жизнь! Зачем же собой
Обольщаешь меня?
Если б силу бог дал,
Я разбил бы тебя.
Не вспомним ли и Полежаева, который,
Не расцветши, отцвел
В утре пасмурных дней.
Долго бы вспоминать всех: кого ни вспомнишь из сильных душою людей, все они годятся в этот список. Невозможно сомневаться в том, что и Гоголь уморил себя, по свидетельству доктора А. Т. Тарасенкова. Не вина Гоголя в том: к тридцатым годам, после бурного возбуждения молодежи возвышенными идеями – наступала реакция, столь обычная в русской жизни. Нельзя было услышать в кругу молодежи ни одного из тех громких слов, над которыми так легко смеяться, но без увлечения которыми бедно и пусто сердце юноши, а взрослого человека пуста и прозаична жизнь. Пусть живет, кто может, такой жизнью, но не будем клеймить тех, кто не может. Не мог и Гоголь. Его конец был тем ужаснее, чем колоссальнее была сила его натуры.
Мир тебе! Во тьме Эреба
Ты своею силой пал… [9]
Корнев во время чтения брал с полу то ту, то другую книгу. Тут были и Берне, и Гейне, и журналы прежних годов, и журналы последних дней.
– Что это ты читал? – спросил Корнев, перелистывая Гете.
– Брось-б-брось, – горячо заговорил Берендя, увидя в руках Корнева Гете, – ж-жил в самую тяжелую эпоху страданий своего народа и… и… не отозвался ни одним звуком. Лучшую эпоху ф…французов называет п…печальной ошибкой…
– О-о-ой! – надрываясь от смеха, стонал Корнев. – Да что ты читал?
– В…выписки делаю, – лучше запоминается.
Корнев взял в руки увесистую тетрадь Беренди.
– Это все летом? Здорово работал.
Корнев с завистью посмотрел на Берендю и принялся сосредоточенно за ногти.
– Чай есть? – спросил Карташев.
Берендя, удовлетворенно следивший за Корневым, возвращенный Карташевым к действительности, смущенно ответил:
– Че… черт возьми. Как раз все деньги вышли.
– Идем к нам, – предложил Карташев.
– О?! – нерешительно произнес Берендя.
– Конечно, – подтвердил Корнев.
Берендя на мгновение задумался и, замотав головой, проговорил:
– Что ж? идем.
– Ну, так идем, – встал Корнев.
– Постой, отчего вы так рано приехали из деревни?
Карташев покосился на Корнева и опять сел.
– Так, ерунда, – раздумчиво сказал Корнев.
Корнев, щадя самолюбие Карташева, передал вкратце события в деревне.
– Т…ты говорил с матерью? – спросил по окончании Берендя.
Карташеву было тяжело и неприятно.
– Что ж ей скажешь? – скажет: мальчишка… – Наступило молчание.
Берендя опустил голову и машинально смотрел в свою тетрадь.
– С…слушай, я не пойду к тебе.
– Идем, – тоскливо и быстро позвал Карташев.
– Идем, – поддержал и Корнев.
– Е-ей-богу, не пойду…
– Ну, что за ерунда!
Карташев обиделся.
– А как ты думаешь, с…сознает она?
– Ну, да брось, одевайся, – настаивал Корнев.
Берендя в нерешительности смотрел на Карташева. Не хотелось ему обидеть и Карташева, не хотелось и встречаться с Аглаидой Васильевной, – тянуло к книгам, и жаль было терять время.
– Нет, ей-богу… Я лучше в другой раз…
– Ну, так как же? – спросил Корнев, смотря на Карташева. Карташев, видимо, обиделся.
– Ну, че…черт с тобой, идем.
– Нет, конечно, это свинство, – начал было Карташев и наклонил голову.
– Да брось, – перебил его Корнев, – идет. Ну, одевайся.
Берендя взял со скамьи грязный пиджак.
– Ну и отлично.
Берендя добродушно усмехнулся и не без едкости спросил:
– М…может быть, она прикажет меня вывести?
Карташев совсем обиделся.
– Ишь какой ты стал! – хлопнул Берендю Корнев по плечу. Все трое вышли.
На улице царила пустота сумерек.
Берендя шел с Корневым впереди, а Карташев плелся поодаль. Корнев как-то вдруг не то забыл о Карташеве, не то потерял к нему интерес. Напротив, Берендя привлекал его к себе, и он повел с ним оживленный разговор.
Беренде было приятно это внимание, он с достоинством щипал свою бородку и энергичнее обыкновенного поматывал головой.
– Несомненно, – говорил, шагая, Корнев, – полный разлад между теорией и практикой… В деревне это как-то особенно рельефно – это разделение труда, о котором кто-то сказал, что одни сеют пшеницу, а другие едят ее. С одной стороны, конечно…
Корнев пренебрежительно махнул рукой.
– А впрочем… С другой стороны, нельзя не признаться, а с другой – нельзя не сознаться… и в конце концов теория и практика вот как стоят друг против друга.
Он показал пальцами, поставив их один против другого, как стоят теория и практика, и махнул пренебрежительно рукой.
– Придет, конечно, время, – сказал он, помолчав.
– Н…не для всех. Персам, например, просто не по средствам будет уж догнать… И…история показывает нам, что и прежде упущенное время не наверстывалось… И тут работает уж п…просто экономический закон… неизбежный. П…под защиту более сильного н…нужда поставит. Бухара…
– Движение, конечно, есть.
– Достаточность этого движения кем определяется? доброй волей убежденного, что оно достаточно?