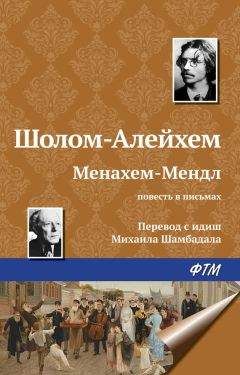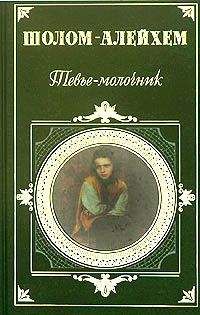Шолом-Алейхем - Менахем-Мендл. Новые письма
от меня, твоего супруга
Менахем-Мендла
Главное забыл. Я знал, заранее знал, что так и случится. А как же иначе? Изничтожают наш язык, а народ будет молчать? Держи карман! Первая бомба прилетела из Сморгони[469]. Сморгонь резко протестует против двадцати семи рук, поднявшихся против нашего идиша! А за ней выступает Богуслав, прямиком ко мне с протестом, и ясно, что это дело их изрядно волнует. «Пусть, — говорят они, — рука нашего делегата, если она тоже была среди этих самых двадцати семи рук, отсохнет. Но это еще не значит, — говорят они, — что весь Богуслав и весь белый свет должны вдруг, ни с того ни с сего тронуться умом и перестать разговаривать на идише!..» Затем идут Ошмяны[470]. Оттуда мне пишут, что хоть мы с ними лично и не знакомы, но тем не менее некоторым образом состоим в свойстве через их земляка, который нынче проживает в Баку, Шмуэля сына Матеса[471], а потому они у меня просят совета как у доброго друга: что же им делать? Святой язык — не понимают дети. Русский — не понимают отцы. Что ж им, кивками объясняться, что ли? Затем получил я решительный протест из нашей Касриловки, честят они меня на чем свет стоит: как же так, где я, дескать, был? Почему молчал? Почему так да почему эдак? Это мне, дескать, выйдет боком! Пусть я только посмею объявиться в Касриловке, они мне покажут!.. А под письмом никто не подписался, стоит только: «Из евреев евреи»… Также и из великого ристократического Егупца получил я «на сладкое» хорошенький протест, подписанный крупнейшими сахарозаводчиками и миллионерами. «Вы хорошо знаете, реб Менахем-Мендл, — так начинается их протест, — что мы, егупецкие миллионеры, не такие уж горячие приверженцы вашего жаргона и не особо прилежные читатели всяких там еврейских книжек, газеток и тому подобного. Потому что, во-первых, откуда у нас на это время? Довольно с нас и того, что заглядываем в какой-нибудь русский листок, просматриваем телеграммы, биржевые курсы и тому подобное, где ж тут еще всякие там ваши еврейские газеты читать… А во-вторых, не к лицу нам это, как французы говорят: заблес аближ[472] (что это значит — понятия не имею; наверно, они хотят этим сказать, что нечего евреям указывать, как им жить)… Но вы же хорошо знаете — тоже когда-то были нашим, егупецким, — мы любим, очень любим, чтобы нам рассказали еврейский анекдот, и именно на жаргоне, а в особенности — пряный анекдот, да еще сразу после обеда… А ну-ка, попробуйте рассказать тот же самый анекдот на святом языке — кто ж его поймет? Или по-русски — ну какой в нем будет смак? Так что ж они там дурака валяют, сионисты ваши?» Так они закончили свой протест, а подписались под ним все самые великие: и Бродские, и Гальперины, и Зайцевы, и барон Гинцбург, и Поляков. А затем идет список миллионеров и сахарозаводчиков помельче: Рабинерзон, Балаховский[473], Гефнер — остальными нечего и голову себе забивать…
Вышеподписавшийся
(№ 200, 10.09.1913)
39. Менахем-Мендл из Вены — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку.
Письмо двадцать четвертое
Пер. А. Френкель
Моей дорогой супруге, разумной и благочестивой госпоже Шейне-Шейндл, да пребудет она во здравии!
Прежде всего, уведомляю тебя, что я, слава Тебе, Господи, нахожусь в добром здоровье, благополучии и мире. Господь, благословен Он, да поможет и впредь получать нам друг о друге только добрые и утешительные вести, как и обо всем Израиле, — аминь!
Затем, дорогая моя супруга, да будет тебе известно, что творится нечто невообразимое, конец света. Все бегают, все говорят без умолку, все горячатся, все бьют в ладоши, из себя выходят, и я в том числе. Теперь, как ты сама понимаешь, с конференциями уже покончено, теперь уже настоящий конгресс пошел! Невозможно описать, что собой представляет конгресс! Нужно самому тут побывать, чтобы понять, что это такое! Представь себе зал, большой, как, скажем, рынок в Касриловке, если не больше, и весь этот зал заполнен делегатами, корреспондентами и гостями, гостями со всего света — столько их, просто сонмы неисчислимые. А потому и теснота, и шум, и толкотня, и духота, и жарища — хуже некуда! Это внутри. А скольким еще пришлось остаться снаружи! Потому как где же на свете сыщется такой зал, который мог бы вместить столько людей, не сглазить бы! Придумали средство (видать, немцы придумали!), заранее предусмотрели на тот случай, что прибудет много народу, — пошли и пересчитали, сколько мест в зале, и отпечатали ровно столько же билетов. Сколько мест — столько и билетов. Понимаешь? А билеты поделили, ясное дело, бесплатно, прежде всего среди делегатов, сионистов то есть, а затем среди корреспондентов, то есть тех, кто пишет в газеты. А оставшиеся билеты стали продавать гостям, тем, кто просто так явился поглазеть на конгресс. И это, как видишь, разумно: раз вы не сионисты и приехали просто так, поглазеть, так раскошеливайтесь! Но поскольку гостей съехалось в тысячу раз больше, чем напечатали билетов, то билетов не хватило, и билеты начали расхватывать и платить за них почем зря — и по двадцать крон, и по пятьдесят крон, и по сто крон за билет. И все им не дорого, только подайте сюда билет! Увидев такое дело, немцы смекнули что к чему и принялись продавать места. Только какие места? Ясное дело, бесплатные места корреспондентов, то есть тех, кто пишет для газет. Поэтому многие корреспонденты остались снаружи, и я в том числе. Поднялось большое возмущение, шум и гам. А больше всех возмущался егупецкий делегат, тот самый, что на конференции, как я тебе уже писал, поднял обе руки и тем самым похоронил наш идиш. Он тоже корреспондент, как и я, — только он пишет для газеты на святом языке. Он устроил немцам такой скандал, что они его надолго запомнят: «Немчура! — разорался он уже не на святом языке, а на жаргоне. — Немчура! Воры! Карманники! Мы вам весь конгресс разнесем! Мы вас так и разэтак! Мы вам то и се!..» Хорошенько, хорошенько им задал! И чем, ты думаешь, дело кончилось? Пропустили нас! А как же иначе? Глупенькая, с тем, кто пишет, повсюду считаются, в особенности ежели он орет благим матом и не стесняется в выражениях. Правда, когда мы вошли, то получили уже фигу с маслом, а не места, пришлось простоять весь день на ногах, но кто на это смотрит? Лишь бы оказаться внутри, видеть все вместе со всеми, слышать все вместе со всеми и вместе со всеми бить в ладоши и кричать «браво». Это мода такая на конгрессе — кто ни взойдет на «биму»[474], ему хлопают и кричат «браво». Затем, когда начинает говорить, ему опять хлопают. А как заканчивает говорить — тут уж обязательно хлопают, несколько минут подряд!.. Можешь себе представить, что, например, творится, когда такая толпа народу, тысяч, не сглазить бы, десять[475], разом начинает бить в ладоши и кричать «браво»? Больше всех хлопали Соколову. Почти пять минут подряд. А как он дошел до Менделя Бейлиса и принялся рассказывать про то, как Бейлис-бедолага невинно страдает, и про то, в чем его подозревают, тут уж так захлопали — чуть зал не разнесли! Жаль, что его самого здесь не было, я имею в виду Менделя Бейлиса. Эх, если бы он был при этом, если бы услышал, как из десяти тысяч глоток несется единым воплем: «Ложь! Клевета! Навет!»[476] — вот если бы он все это, повторяю, увидел и услышал, он бы мог гордиться, и ему стало бы легче переносить все те беды и страдания, которые он, бедняга, претерпевает в узилище! Ой, Бейлис, Бейлис! Как я о нем вспомню, так у меня сердце сжимается, а в голове проносится мысль: как нам его, бедолагу, который стал невинной жертвой за весь еврейский народ, вознаградить, когда, даст Бог, он выйдет с Божьей помощью целым и невредимым из узилища? Деньги тут неуместны, потому что разве ж такое можно оценить? Есть у меня, однако, такая для него комбинация, что дал бы только Бог дожить нам до той минуты, того мгновенья!.. Но пока снова возвращаемся к конгрессу.
Ну что я могу тебе сказать, дорогая моя супруга? Просто слов не хватает, чтобы описать тебе в точности, что это такое — конгресс! Как увидишь перед собой тысячи евреев, все одеты по-праздничному и все с одним помыслом, с одной думой о Сионе, так и на душе праздник! Мы теперь убедились, что есть еще на свете страны, где евреи могут собираться свободно и высказываться открыто — все, что у каждого на сердце!.. Была бы ты тут, когда зачитывали телеграмму, которую мы послали старцу, Францу-Йойсефу то есть, чтобы поздравить его с конгрессом и благословить на долгие годы за хорошее обхождение с евреями, а затем, когда зачитывали ответную телеграмму, которую он нам прислал!.. Или видела бы ты людское море, затопившее улицы Вены, когда мы, все как один, отправились поклониться и пролить слезу над могилой Герцля! И какой порядок был при этом и какая тишина! Ты бы тогда сама сказала, что конгресс — это нечто вроде «собирания рассеянных»[477], нечто вроде того паломничества, какое было в древности, когда-то, когда евреи со всей Земли Израильской шли на праздник в Иерусалим[478]. Если бы я не боялся согрешить, так мог бы сказать, что сама Шехина[479] покоится нынче в Вене. Короче, еврей, который хотя бы раз в жизни не побывал на конгрессе, недостоин того, чтобы земля носила его! Сколько живу, ни разу не чувствовал так сильно, что я нахожусь среди евреев, как здесь, на конгрессе. Кажется мне, что я заново родился, словно у меня выросли крылья и я лечу, лечу! Жаль только, что конгресс продлится всего неделю[480]. Ну что такое неделя? И между прочим, боюсь признаться, чтобы не сглазить, но вертится у меня мысль: горе мне, когда же и я удостоюсь? То есть когда же наступит тот счастливый момент, что и мне удастся выступить с моими проектами? Поскольку все тут проталкиваются к «биме», все хотят выступить, каждый хочет что-нибудь сказать и у каждого есть что сказать, то в итоге было тут установлено, кому, и в какое время, и сколько минут говорить — по их, выходит, что и десяти минут много! Нет, боюсь, дело до меня дойдет не скоро. Но может быть, я с Божьей помощью перехвачу минутку между выступлениями — дело еще вовсе не идет к концу — и выступлю с заявлением. Такой тут обычай: нужно выступать с заявлением. Хочешь знать, что это означает? Объясню тебе. Например, хочешь ты взобраться на «биму» и сказать чего-нибудь, так не можешь просто так вскарабкаться туда и заговорить. Нет и нет! Не позволят тебе! Как быть? Ты должен сначала написать, что у тебя есть выступление, тогда тебя запишут в очередь, но, поскольку охотников поговорить без числа, а времени мало, совершенно немыслимо, чтобы все, которые хотят выступить с заявлением, и в самом деле выступили — хоть ты сиди тут день и ночь, не ешь, не пей, не спи… Плохо дело? На этот случай есть способ — чтоб не мучиться, у немца на любой случай есть способ! Все, которые хотят выступить с заявлением, как увидят перед собой множество ораторов, так берут и выбирают между собой одного генерала, то есть того, кто будет говорить от них ото всех. И тут одно из двух. Выберут меня генералом — отлично. А ежели нет, я передам свой проект избранному генералу, и пусть он зачитает мой проект, пусть ему хлопают и кричат «браво» — ему и честь, и рукоплескания. Потому что для меня главное — благо, которое выйдет из этого для всего еврейского народа. Но поскольку у меня сейчас нет времени — сионисты, как обычно, бегут на новую конференцию, и я в том числе, — тут еще полно работы, тут еще и банк колониальный, и фонд национальный, которые нужно обеспечить, а это, между прочим, не пуговицы, а деньги, это, шутка ли, девять миллионов! А ведь еще нужно собрать сегодня комитет, с президентом, с членами, когда мы со всем этим управимся? — буду краток. Если на то будет воля Божья, в следующем письме напишу обо всем гораздо подробней. Дал бы только Бог счастья, успеха и удачи. Будь здорова, поцелуй детей, чтобы они были здоровы, передай привет теще, чтобы она была здорова, и всем членам семьи, каждому в отдельности, с наилучшими пожеланиями