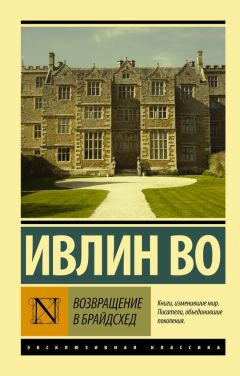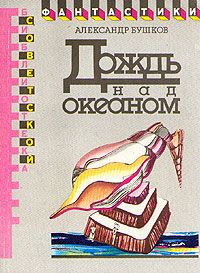Бут Таркингтон - Великолепные Эмберсоны
Глава 29
Про "разрешение" было подмечено верно, но пришло время, и пришло оно весной следующего года, когда вопрос о разрешении уехать домой стоять перестал. Джордж был вынужден привезти маму и сделать это как можно быстрее, иначе она не повидалась бы с отцом. Эмберсон не ошибся: опасения не увидеть отца основывались не на слабости старческого сердца, а на ее собственном состоянии здоровья. В результате Джордж телеграфировал дяде, чтобы тот приехал на вокзал с инвалидной коляской, ибо путешествие обернулось катастрофой, и к этому гибридному креслу, поставленному на перроне, сын вынес Изабель на руках. Она не могла говорить, лишь похлопала брата и Фанни по руке и выглядела "такой милой", как ее попыталась утешить отчаявшаяся золовка. Из кресла ее перенесли в экипаж, и по пути домой она даже нашла в себе силы вынуть свою руку из руки Джорджа и слабо указать пальцем в окно.
— По-другому, — прошептала она. — Всё по-другому.
— Ты про город, — сказал Эмберсон. — Говоришь, что город изменился, правильно, милая?
Она улыбнулась и одними губами сказала:
— Да.
— Он станет лучше, особенно теперь, когда ты вернулась и скоро поправишься.
Но она лишь грустно и немного испуганно посмотрела на брата.
Экипаж остановился, сын внес Изабель в дом и поднял в ее спальню, где ожидала сиделка. Он вышел мгновение спустя, когда к ней направился врач. В конце коридора уже застыла потрясенная группа: Эмберсон, Фанни и Майор. Смертельно бледный Джордж, не произнося ни слова, взял деда за руку, но старик не заметил этого.
— Когда мне позволят увидеться с дочерью? — проворчал он. — Мне даже встретить ее не дали, потому что это ее расстроит. Пусть меня впустят поговорить с ней. Уверен, она мне обрадуется.
Он не ошибся. Вскоре показался доктор и поманил его, Майор прошаркал по коридору, опираясь на дрожащую трость. Его спина, после долгих лет гордой военной выправки, всё-таки согнулась, а неподстриженные седые волосы подметали воротник. Старый — старый и иссушенный жизнью — человек с трудом шел к комнате дочери. Голос Изабель окреп, и когда старик добрался до порога, в коридоре было слышно ее тихое приветствие. Потом дверь закрылась.
Фанни дотронулась до руки племянника.
— Джордж, ты бы перекусил: я знаю, она бы этого хотела. Я уже накрыла: она бы этого хотела. Спустился бы ты в столовую, на столе уйма всякой всячины. Она бы хотела, чтоб ты покушал.
Он повернул к тете смертельно бледное лицо, искаженное паникой.
— Не хочу я есть! — прорычал он. И начал расхаживать туда-сюда, стараясь не приближаться к двери Изабель и следить за тем, чтобы звук шагов поглощался толстой ковровой дорожкой. Чуть позже он подошел к Эмберсону, с опущенной головой и скрещенными на груди руками притулившемуся у переднего окна.
— Дядя Джордж, — хрипло начал он, — я не думал…
— Что?
— Господи, я не думал, что то, что с ней, настолько серьезно! Я… — Он выдохнул. — Когда врач, к которому я обратился… — Он не смог продолжать.
Эмберсон только кивнул, но больше никак не высказал своего отношения.
Изабель пережила вечер. В одиннадцать Фанни робко вошла в комнату Джорджа.
— Здесь Юджин, — прошептала она. — Он внизу. Хочет… — Она сглотнула. — Спрашивает, можно ли к ней. Я не знаю, что ответить. Сказала, что узнаю. Доктор сказал…
— Доктор просил не беспокоить ее, — рявкнул Джордж. — Думаешь, визит этого человека ее не обеспокоит? Господи! Если б не он, всё было б в порядке: мы б тихо-мирно жили… и с чего пускать к ней в комнату чужого? Пока мы путешествовали, она о нем только разок-другой заговорила. Он что, не знает, как она больна? Передай ему, врач запретил ее тревожить. Он ведь так и сказал, да?
Расстроенная Фанни сразу уступила:
— Передам. Скажу ему, что доктор не разрешил ее беспокоить. Я и не знала… — Она побрела прочь.
Через час в дверях спальни Джорджа появилась сиделка. Она вошла бесшумно, когда он стоял спиной, но, заметив ее, он подскочил, как от выстрела, и разинул рот, настолько боялся того, что она скажет.
— Она зовет вас.
Он со стуком захлопнул челюсть, кивнул и пошел за женщиной, но она не вошла к Изабель вместе с ним.
Глаза больной были закрыты; не открывая их и не поворачивая головы, она улыбнулась и протянула ему руку, когда он опустился на табурет рядом с кроватью. Он взял ее худенькую, холодную ладонь и прижал к своей щеке.
— Родной, ты покушал? — Изабель могла лишь шептать, медленно и с трудом. Казалось, сама она далеко и может только подавать знаки о том, что хочет сказать.
— Да, мам.
— Хорошо… покушал?
— Да, мам.
Она помолчала, затем произнесла:
— Ты точно не… не простыл, пока мы возвращались?
— Я в порядке, мам.
— Хорошо. Так мило… мило…
— Что, мамочка?
— Касаться… твоей щеки. Я… я чувствую ее.
Это очень сильно напугало Джорджа: она так радовалась прикосновению, как ребенок сбывшемуся чуду. Он настолько напугался, что онемел, и тут же подступил страх, что мама почувствует, как он дрожит, но она не почувствовала и замолчала. Наконец заговорила вновь:
— Интересно… знают ли Юджин и Люси, что мы… вернулись.
— Конечно, знают.
— Он… спрашивал про меня?
— Да, он приходил.
— Он… ушел?
— Да, мам.
Она слабо вздохнула:
— Мне бы…
— Что, мам?
— Мне бы с ним… увидеться. — Она сказала это чуть слышно и очень печально. Прошло несколько минут: — Еще… еще разочек, — прошептала она и затихла.
Она вроде бы заснула, и Джордж начал вставать, чтобы уйти, но слабое движение пальцев оставило его, и он сел обратно, всё еще прижимая к щеке ее руку. Наконец он убедился, что она заснула и пошевелился опять, желая позвать сиделку, и теперь ее пальцы не двигались, останавливая его. Изабель не спала, но ей подумалось, что мальчику надо дать отдых, ему будет лучше подготовиться к тому, что, она знала это, неминуемо, потому и сдержала жадное стремление прикасаться к нему — и отпустила.
Джордж застал сиделку в коридоре, где та беседовала с врачом, и сказал им, что мама задремала, потом прошел к себе и с удивлением обнаружил, что на его кровати лежит дед, а дядя прислонился к стене поблизости. Два часа назад они ушли в свой особняк, и он не слышал, как они вернулись.
— Доктор говорит, нам лучше собраться, — сказал Эмберсон и замолчал. Джорджа затрясло, он присел на краешек кровати. Дрожь не переставала бить его, и иногда он стирал жаркий пот со лба.
Часы тянулись, старик на постели всхрапывал, но вдруг проснулся и захотел подняться, а Джордж Эмберсон положил руку ему на плечо и пробормотал пару успокаивающих слов. Временами то дядя, то племянник на цыпочках выходили в коридор, смотрели в сторону двери Изабель и так же тихо возвращались, встречая бессильный взгляд оставшегося в комнате.
Один раз Джордж попытался храбриться:
— Доктор в Нью-Йорке сказал, что она может поправиться! Я тебе не говорил? Не говорил, что он сказал, она поправится?
Эмберсон не ответил.
Через грязноватые окна пробивался рассвет, а через полчаса стало совсем светло, и тогда двое мужчин бросились к коридору на раздавшийся там звук, а Майор, не понявший, в чем дело, присел на кровати. Послышался голос сиделки, через секунду появилась Фанни Минафер, делая жалкие попытки что-то сказать.
Эмберсон тихо спросил:
— Она хочет нас… видеть?
Тут Фанни пришла в себя и громко-громко разрыдалась. Она обняла Джорджа и, всхлипывая от утраты и сочувствия, сказала:
— Она тебя любила! Любила тебя! Любила! Ох, как же она любила тебя!
Изабель только что оставила их.
Глава 30
После похорон Изабель Майор Эмберсон не проронил ни слезинки: он знал, что разлука с дочерью не будет долгой, предыдущее расставание было длиннее. Он больше не занимался бухгалтерией в свете газовой лампы, а просиживал вечера у себя в спальне, у камина, подавая голос, только если кто-то обращался к нему. Казалось, он не замечает окружающего мира, и все, кто был с ним, ощущали, что смерть Изабель так потрясла его, что он затерялся в воспоминаниях и смутных грезах.
"Вероятно, мыслями он в собственной юности, или в днях Гражданской войны, или во временах, когда они с мамой только поженились, а мы, их дети, были совсем малышами, когда город был всего лишь городком с одной мощеной улицей и грунтовыми дорогами с досками вместо тротуаров". Эту догадку высказал Джордж Эмберсон, а остальные согласились, но они ошиблись. Майор полностью погрузился в размышления о жизни. Ни одна деловая задумка не захватывала его так, как поглотили эти новые планы, ибо он готовился сделать шаг в неизвестную страну, в которой его, наверное, даже не узнают как Эмберсона или вообще не узнают, разве что Изабель поможет, если будет в силах. Эта сосредоточенность создавала впечатление погружения в прошлое, но не была им. Впервые после ранения во время Геттисбергской кампании, возвращения домой и открытия собственного дела, он занялся чем-то действительно важным: пришло понимание, что всё, что тревожило или радовало его в промежуток между этими двумя поворотными точками — покупка, стройка, торговля, капитал, — было лишь пустяками и тратой времени по сравнению с тем, что предстояло совершить.