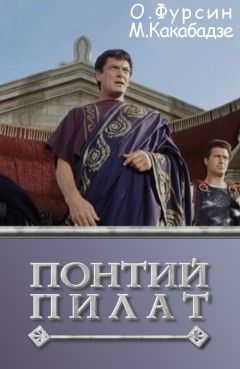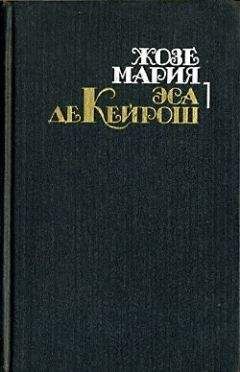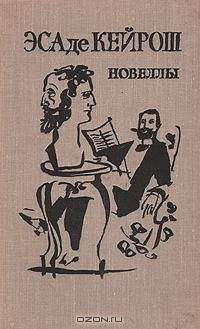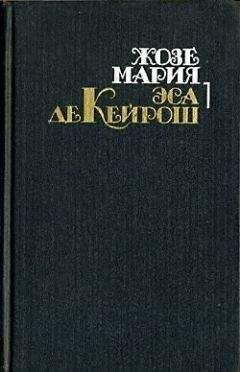Жозе Эса де Кейрош - Реликвия
Тут пришел весельчак Поте и внес пакет с терновым венцом — такой же круглый и аккуратный и тоже перевязанный красным шнурком. Поте сейчас же принялся рассказывать иерусалимские новости, добытые в цирюльне на «Крестном пути»; новости были не пустячные. Из Константинополя пришел фирман о высылке греческого патриарха, благодетельного старца, страдавшего печенью и помогавшего бедным. В лавке благочестивых сувениров на Армянской улице консул господин Дамиани топал ногой и кричал, что, если до богоявления не будет разрешен пограничный конфликт между францисканским монастырем и протестантской миссией, Италия объявит войну Германии. В Вифлееме, в церкви Рождества, католический патер, благословляя пресуществление святых даров, в сердцах разбил голову коптскому попу толстой восковой свечой… Наконец самая интересная новость: для увеселения жителей Сиона у Иродовых ворот, ведущих в долину Иосафата, открывается заведение с бильярдом, под вывеской «Кафе Синай».
В тот же миг сосущая тоска по былому, этот пепел, засыпавший мою душу, сдуло свежим ветром молодости и современности… Я подпрыгнул на звонком кирпичном полу.
— Да здравствует «Кафе Синай»! Туда! К хорошей закуске! За кий! Тьфу! Давно пора встряхнуться! А потом — к женщинам! Друг Поте, сунь-ка терновый венец вон туда… Ведь это верные деньги! То-то старуха разлимонится! Положи его на комод, между подсвечниками. Заморим червячка, Потезиньо, — и в «Синай»!
Тут подоспел запыхавшийся Топсиус со свежей, захватывающей вестью: пока мы ездили по Галилее, комиссия библейских раскопок обнаружила под многовековыми наслоениями мусора одну из тех мраморных досок, которые, по свидетельству талмудических книг, Иосифа Флавия и Филона Александрийского, висели в храме у Прекрасных ворот: надпись на них гласила, что вход туда язычникам запрещен… Топсиус уговаривал меня пойти сразу после обеда полюбоваться на эту диковину… На какое-то мгновение в памяти моей мелькнула некая двустворчатая дверь, вознесшаяся в победоносном великолепии над четырнадцатью ступенями из зеленого нумидийского мрамора, и в самом деле красивая… Но я тут же с отвращением отмахнулся:
— Тьфу! Не хочу! Будет с меня… Топсиус, заявляю вам торжественно: отныне и впредь я не желаю видеть никаких развалин и никаких святынь. К черту! Я принял слишком большую дозу, доктор!
Историк, подобрав фалды, пустился наутек.
Всю первую неделю я посвятил описи и упаковке мелких сувениров, припасенных для тети Патросинио. Было их немало, этих бесценных сокровищ, достойных занять место в святилище самого знаменитого собора. Помимо тех, что Сион импортирует ящиками из Марселя, как-то: четок, амулетов, медальонов; помимо тех, какими торгуют разносчики возле гроба господня: пузырьков с иорданской водой, камней с «Крестного пути», маслин с Елеонской горы, ракушек из Генисаретского озера, я вез еще много других — редких, необыкновенных… Так, у меня была дощечка, обструганная самим святым Иосифом; две соломинки из яслей, где родился наш Спаситель; черепок от кувшина, с которым пречистая дева ходила по воду; подкова осла, на котором святое семейство бежало в Египет; кривой ржавый гвоздь…
Все эти сокровища я обернул в цветную бумагу, перевязал шелковыми ленточками, снабдил проникновенными двустишиями и уложил в прочный ящик, обитый для верности железом. После этого я занялся главной реликвией — терновым венцом, будущим источником небесных милостей для тетушки и звонкой монеты для меня, ее рыцаря и пилигрима.
На упаковку венца, как мне казалось, могла пойти лишь самая благородная и святая древесина. Топсиус рекомендовал ливанский кедр — дерево столь замечательное, что ради него Соломон вступил в союз с Хирамом, царем Тира. Однако весельчак Поте, менее сведущий в археологии, посоветовал употребить на ящик честную фламандскую сосну, освященную патриархом иерусалимским. Зато я смогу сказать тетушке, что ящик сколочен гвоздями, некогда служившими при построении Ноева ковчега: один отшельник чудесным образом нашел их на горе Арарат; между прочим, ржавчина, оставленная на их поверхности первозданной сыростью, отлично помогает от насморка…
Все эти важные подробности мы с Поте обсудили в «Синае», за кружкой пива. Сверток с терновым венцом пролежал эту хлопотливую неделю на комоде, между стеклянными подсвечниками. Накануне отъезда из Иерусалима я любовно уложил его в ящичек, который обил синим ситцем, купленным на «Крестном пути»; дно ящика я устлал белой, как снега Кармила, ватой и положил на нее драгоценный пакетик; я решил его не трогать и не развертывать, оставив в том самом виде, в каком он вышел из рук Поте: в серой оберточной бумаге, обвязанный красным шнурком; самые складки обертки, шуршавшие в Иерихоне, самый узел, завязанный на берегах Иордана, должны были, по понятиям сеньоры доны Патросинио, источать несравненный аромат святости… Поджарый Топсиус наблюдал мои благочестивые хлопоты, попыхивая глиняной трубкой.
— Эх, Топсиус, какой куш я на этом огребу! Да, дружище… Вот только… Так вы полагаете, я могу сказать тетушке, что терновый венец — тот самый?
Ученый муж, окутавшись облаком дыма, изрек глубокую мысль:
— Ценность реликвий, дон Рапозо, не в их подлинности, а во внушаемой ими вере. Можете сказать вашей тетушке, что венец — тот самый.
— Да благословит вас бог, доктор!
В этот вечер мой просвещенный друг по приглашению комиссии раскопок посетил гробницы царей. Я же отправился в Гефсиманский сад, ибо в окрестностях Иерусалима нет другого столь же тенистого уголка, где можно спокойно посидеть, наслаждаясь трубкой.
Я вышел через Стефановы ворота, переправился через Кедрон и взобрался по тропинке, вьющейся среди агав, к белому деревянному забору; толкнул свежевыкрашенную в зеленый цвет калитку с медным засовом и вошел в сад, где некогда, под сенью олив, Иисус, рыдая, упал на колени.
Еще живы эти святые деревья, успокоительно шелестевшие над его головой, отягощенной неустройством мира! Их восемь штук: черных, подточенных старостью, подпертых деревянными шестами, погруженных в дремоту… Они уже забыли ту ночь месяца нисана, когда ангелы бесшумно вились над их кроной и смотрели сквозь ветви на человеческие скорби сына божия… В дуплах их служители держат теперь скребки и садовые ножницы; редкие, чахлые листья трепещут и вянут, как улыбка умирающего.
Но зато какой ухоженный, любовно политый огород цветет вокруг! На грядках, окаймленных бирючиной, зеленеет пышный латук; в прохладных аллеях чисто, как в часовне: ни один засохший листик не нарушает порядка. Вдоль ограды, где блестят в нишах двенадцать фаянсовых апостолов, бегут шпалеры зеленого лука и моркови, защищенные ароматной лавандой. Жаль, что не было здесь этого цветущего уголка во время Иисуса! Может быть, покой и порядок, царящий на этих грядках, усмирили бы грозу, бушевавшую в его сердце?
Я уселся под самой старой оливой. Монах-садовник, улыбчивый длиннобородый старец, подоткнув рясу, поливал цветы. Спускался вечер, полный отрадной задумчивости.
Набивая трубку, я улыбался своим мыслям. Да! Завтра я покину это пепелище! Вон оно, там, внизу, среди могильных стен, поникло, точно безутешная вдовица… Наступит день, когда, разрезая синие валы, корабль доставит меня на родину! Я увижу цветущую гряду Синтры, чайки с родных берегов приветственно закричат, закружатся над мачтами моего корабля; потом тихо выплывет Лиссабон с его известковыми стенами, с его поросшими травой кровлями — беспечный, милый город… Взывая: «Тетечка! Тетечка!» — я взбегу по каменному крыльцу нашего дома на Санта Ана, и тетя Патросинио, трепеща и распустив слюни, воззрится на священную реликвию, которую я поднесу ей со скромным видом. И тогда пред лицом всего сонма небесного, при таких свидетелях, как святой Петр, пречистая дева до Патросинио, святой Казимир и святой праведник Иосиф, она назовет меня «своим истинным сыном, своим законным наследником». И на другой день начнет желтеть, хиреть, чахнуть… О, радость!
В цветущей изгороди среди веток жимолости запела птичка; но надежда пела еще веселей в моем сердце! Вот тетушка слегла, с черной повязкой на лбу; руки ее тревожно бегают по смятым, влажным от пота простыням, тело судорожно корчится в страхе перед лукавым. Сейчас она преставится, окочурится. В теплый майский день, окоченевшую и уже начавшую попахивать, ее положат в крепкий надежный гроб… и в сопровождении целой вереницы экипажей дона Патросинио отправится к червям, в могилу. Потом в парчовом зале будет взломана печать на ее завещании; я велю приготовить для нотариуса Жустино пирожные и портвейн, а сам, облекшись в траур, бессильно опираясь на мраморный стол, буду прятать за скомканным платком неприлично сияющее лицо — и вот под шуршание гербовой бумаги зазвенят, заблестят, покатятся, зашелестят, точно зерно тучного урожая, полетят, полетят мне в руки золотые монеты, оставленные Г. Годиньо! О, восторг!