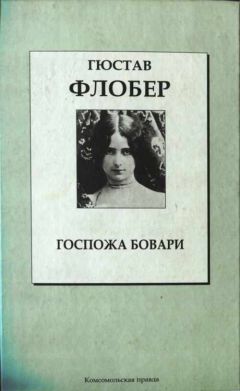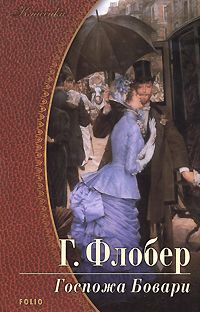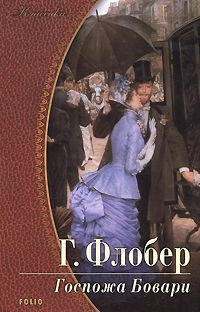Исаак Башевис-Зингер - Враги. История любви Роман
Тамара крикнула:
— Где твои калоши? Ты не можешь так идти!
— У меня нет выбора.
— Хочешь покончить жизнь самоубийством, да?
— Это лучше всего.
— Что ты сделал? Побил ее?
— Сделал, что смог.
— Вернись, возьми калоши. Получишь воспаление легких.
— Не твое дело, что я получу. Пошли вы все к черту!
— Ну, настоящий Герман… В какую грязь ты вляпался? Подожди, я поднимусь и принесу твои калоши.
— Нет, ты никуда не пойдешь!
— Ладно, будет одним идиотом меньше.
Тамара побрела по кривой тропинке между сугробами. Улица выглядела по-вечернему пустынной, снег отливал кристальной синевой. Время от времени Тамара оглядывалась назад. Фонари уже зажглись, спустились сумерки. Небо было затянуто желтоватыми, ржаво-коричневыми тучами, предвещавшими непогоду. Дул ледяной ветер.
Вдруг наверху открылось окно, из него выпала калоша. Потом полетела вторая. Это побитая Ядвига встала с пола и бросала Герману вслед калоши. Он поднял глаза к окну, она тут же закрыла его и задернула занавески. Тамара обернулась. В темноте она рассмеялась горьким смехом над этой жалостью по отношению к тому, кто ее не заслуживал. Она подмигнула и погрозила Герману кулаком.
Герман сразу надел калоши, зачерпнув при этом полные ботинки снега. Тамара подождала, пока Герман догонит ее. Она сказала:
— Худшему псу достаются лучшие кости… Так было всегда и везде. Почему?
Она взяла Германа под руку, и они побрели дальше, как пожилая супружеская пара. С крыш сдувало снег. Мермейд-авеню была покрыта сугробами. В снегу виднелся мертвый голубь, торчали только красные лапки. «Да, святое создание, ты уже свое отмучился, — сказал себе мысленно Герман. — Хорошо тебе…» Его охватила горечь, стало тяжело на сердце. Он поднял взгляд к небу. «Зачем Ты создал его, если ему предстоял такой конец? Как долго Ты еще собираешься молчать, Ты, всемогущее Божество?»
Герман и Тамара дошли молча до Стиллвел-авеню и сели вместе в метро. Тамаре надо было выходить на Четырнадцатой улице, а Герману — на Таймс-сквер. Все сидячие места были заняты, кроме одного узкого бокового сиденья, куда они и втиснулись.
— Ты же решила не делать операцию, — сказал Герман.
— Да что мне терять, кроме своей никчемной жизни?
Герман опустил голову. Он представил себе, что они с Тамарой едут в одном из тех вагонов, которые везли евреев в газовые камеры. Герман фантазировал: существует таблетка, которую можно принять и проспать семьдесят лет, как Хони Амеагель… Теперь у него было одно желание — бежать от всех и вся, забраться в какую-нибудь дыру и ни о чем не думать, ни на что не надеяться. Он отдавал себе отчет в том, что, по существу, он мечтает о могиле.
На Юнион-сквер Тамара попрощалась с ним, он встал и поцеловал ее. Тамара расплакалась, и лицо Германа стало мокрым от ее слез.
— Не поминай лихом! — сказала она.
— Прости меня!
— Это не твоя вина…
Тамара вышла. Герман вернулся в слабо освещенный угол. Ему вдруг почудилось, что он слышит голос отца. «Ну, и что же ты наделал? — говорил ему отец. — Сделал невыносимой и свою жизнь и чужие. Потерял и этот мир, и мир грядущий… Нам стыдно за тебя в раю».
Герман вышел на Таймс-сквер и, пересел на экспресс. Здесь было светлее, чем в прежнем вагоне. Герман закрыл глаза. Он больше не мог смотреть на пассажиров, лампы, рекламу. Раввин разгадал все тайны Германа, духовно раздел его. Без конспирации его любовь превратилась в позор, обузу, насилие… Но избежать этого Герману уже не удастся, если только не бросить всех и вся в эту холодную зимнюю ночь и не исчезнуть…
Герман вышел на станции в Бронксе и направился к переулку, где жили Шифра-Пуа и Маша. Он сразу узнал машину раввина. Тот заехал на своем «кадиллаке» на заснеженную улицу, почти полностью перегородив ее. В окнах Шифры-Пуи было светло. В доме, должно быть, зажгли лампы. Юношеский стыд охватил Германа. Он по-детски представил, как вваливается со своим бледным лицом, красным замерзшим носом, в потрепанной одежде в ярко освещенную квартиру. На крыльце Герман принялся отряхивать снег и тереть щеки, чтобы на них появился румянец. В темноте он поправил галстук и вытер мокрый лоб и волосы платком. Что ж, надо испить эту горечь до дна…
Герман только теперь понял, что раввин не нашел никаких ошибок в его статье. Ему нужен был только повод вмешаться в жалкую личную жизнь Германа. Многие избегали раввина, потому что он вел себя так со всеми.
Герман открыл дверь и увидел на комоде вазу с огромным букетом роз. На накрытом столе между печеньем и апельсинами стояла большая бутылка шампанского. Раввин и Маша чокались. Они не слышали, как вошел Герман. Маша, по-видимому, была уже навеселе, она громко говорила и смеялась. На ней было нарядное платье. Раввин говорил громким голосом. Шифра-Пуа, должно быть, жарила драники для гостя на кухне. Герман услышал шипение сковородки и почувствовал запах масла и тертой картошки. Раввин добился своего. Он обожал поражать бедняков своей роскошной машиной, цветами и дорогими подарками. На нем был светлый костюм. Он выглядел невероятно высоким и широкоплечим в тесной квартирке с низким потолком.
Увидев Германа, раввин устремился к нему, преодолев расстояние одним огромным скачком. Он хлопнул в ладоши и торжественно воскликнул:
— Мазл-тов, жених!
Маша отставила бокал:
— Вот и он!
Она принялась тыкать в него пальцем, подмигивать и качаться. Потом подошла к Герману и воскликнула:
— Не стой в дверях. Это твой дом, твоя жена… Здесь все твое!
И набросилась на Германа с поцелуями.
Глава восьмая
Уже второй день шел снег. В доме Шифры-Пуи не работало отопление. Негр, живший в подвале и работавший кочегаром, лежал пьяный. Топка сломалась, чинить ее было некому, не было денег, чтобы нанять рабочих. Хозяин куда-то уехал или обанкротился.
Шифра-Пуа ходила по дому в рваном тулупе, который она привезла из Германии, и в сапогах, повязав на голову шерстяной платок. От холода и печали ее лицо пожелтело, а может быть, у нее были камни в желчном пузыре. Она надела на нос очки и не выпускала из рук молитвенник. Шифра-Пуа то ли молилась, то ли проклинала антисемитов и мошенников-предпринимателей, из-за которых квартиранты замерзают зимой. Ее губы приобрели синий оттенок, она произносила стих из Писания и затем восклицала:
— За что нам в Америке такие напасти? Здесь немногим лучше, чем в лагерях. Не хватает только немцев, чтобы бить нас и гнать на работу…
Маша, которая в тот день не пошла на работу, потому что готовилась к вечеринке у раввина, прикрикнула на мать:
— Мама, тебе должно быть стыдно! Было бы у тебя в Штуттгофе то, что есть здесь, ты бы с ума сошла от радости.
— Откуда взять силы? Там мы надеялись, и надежда нас поддерживала. А здесь на что надеяться? У меня руки и ноги замерзли. Может, развести огонь в жаровне? У меня кровь стынет.
— Откуда в Америке взять жаровню? Мы уедем отсюда. Вот придет весна.
— Я до весны не протяну…
— Старая ведьма, ты нас всех переживешь! — закричала Маша.
Вечеринка, на которую рабби Лемперт пригласил Машу вместе с Германом, доводила ее до безумия. Вначале Маша отказалась идти, полагая, что это затея Леона Торчинера, что это он уговорил раввина пригласить ее, чтобы опозорить. Он точно приготовил для нее какой-нибудь неприятный сюрприз. Машу переполняли подозрения. Все это — замысел Леона Торчинера: приезд раввина к ней домой, попытка напоить ее шампанским, предложение работы. Все эти трюки нужны для того, чтобы поссорить ее с Германом. Маша и раньше говорила, что раввин — тряпка, бесхарактерный человек, хвастун и лицемер.
Упрекая мать за злословие, Маша и сама кляла Леона Торчинера на чем свет стоит, называла его шарлатаном, жиголо и провокатором.
После ложной беременности и родовых схваток Маша стала очень пугливой. Ею все время овладевали разные страхи. Она не могла спать по ночам, даже когда принимала снотворное, а когда засыпала, ее будили кошмары. Покойники приходили к ней во сне, рвали ее на части, оставляли на теле синяки и кровоподтеки, укусы и шрамы от ногтей и зубов. Отец появлялся перед ней в саване и кричал ей в ухо стихи из Писания. Фантастические животные с витыми рогами, острыми клювами, обвешанные торбами, покрытые волдырями и нарывами, лаяли, рычали, кусали и брызгали слюной. Теперь месячные с обильными кровотечениями наступали у нее каждые две недели. Шифра-Пуа настаивала на том, чтобы она сходила к врачу, но Маша не верила врачам, утверждала, что они травят своих пациентов.
Неожиданно Маша решила все-таки сходить на вечеринку. Зачем бояться Леона Торчинера? Она получила от него развод по закону, с участием раввина. Никто не может заставить ее разговаривать с ним. Если Леон поздоровается с ней, она повернется к нему спиной. Если выкинет какой-нибудь фокус, Маша без всяких церемоний плюнет ему в лицо.