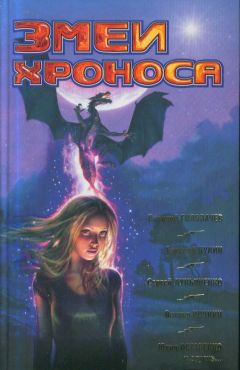Борис Житков - Виктор Вавич
— А это знаете? — вдруг весело сказал Израиль. Таинька обернулась. Груня жарко дохнула.
— А вот! — сказал Израиль и набрал воздуху. Он засвистал в морозном воздухе. — Оно идет немножко выше, в e-mol, так губой нельзя. Может, Бог губой это вытянет.
Минуту молчали.
— Еще! — сказала Груня, переводя дух, и посмотрела на котелок — над поднятым воротником.
— А что еще? — Израиль тер ухо свободной рукой.
— Это самое, — вместе сказали Груня с Тайкой. Израиль свистал верно, точно, свистал, как будто инструмент был у него в губах.
Сонный свет мутной шапкой стоял над городом. Брызнули из-за поворота огни. Теплый гул от улиц. Израиль оборвал свист.
— Смерз в ноги, страшное дело! — Он соскочил с саней и побежал рядом. — Стой, извозчик, — крикнул Израиль. — Имеешь рубль. — Он ткнул извозчику монету в мерзлую рукавицу и побежал на тротуар.
Тая кивала головой в платочке, Израиль снял котелок и похлопал им по руке на отлете, в воздухе, а волосы дыбом стояли на голове, как вторая шапка.
Тая глядела в колени и счастливо молчала. И все стоял в ушах, все дышал в груди мотив, и казалось, что не там едут, где едут, и не туда приедут.
— Не проехали мы? А? — крикнула Груня, и Тая вздрогнула. Мимо их окон ехали, и красным светом чуть веяло от маминого окна.
Груня наспех совалась в кошелек.
— Беги, беги, — говорила Тайке.
Скрипнул снег, взвизгнула мерзлая калитка и звонко хлопнула за Таей. Не раздеваясь, мерзлыми пальцами звякала ламповым стеклом и слышала, как зашевелилась, заскрипела кровать под старухой. Рявкнул пес, взвизгнул — видно, Груня кинула снегом, — и лампа, жмурясь, трещала, а Груня уже вмахнулась в комнату, и Тайка успела кивнуть на дверь. Как была, не скинув шубы, двинула морозная Груня и с широкого шага стала на колени у изголовья кровати.
— Пришла я и пришла, — говорила, запыхавшись, Груня и ловила старухину руку, наугад, на память, в красной полутьме лампады. — Груня я, Груня. Викторова Груня, — и жала жарко бесчувственную руку. Поцелуем давила и все говорила: — Груня я, Груня, Викторова Аграфена.
— Дай глянуть-то… поди, милая, сюда, — и старуха здоровой рукой гребла Груню за мокрую шапку к себе и целилась попасть губами в губы.
Жаркое-жаркое тянула к себе старуха. Она не видела лица, только чуяла дыхание, жаркое, громкое, и плотными губами придавила Груня старушечьи губы и закрыла глаза на секунду… И больше нельзя было, и оторвались, чтобы не отошло назад, оторвались, так и не видевши друг друга.
На пороге стояла Тая с лампой.
— Не надо, не неси, Бог с ней… глаза режет, — сказала старуха. Слабо махнула рукой и устало бросила ее поверх одеяла.
Груня хотела подняться.
— Стой! — шепотом сказала старуха. — Стой, стой!.. Возьми руку мою правую… возьми, возьми, я не могу. Сложи пальцы, так. И перекрести себя. И Вите передай. Так и люби, как любишь. Иди… старика приласкай. Бедный он…
Груня встала. Три раза перекрестилась на образ, вышла и тихонько заперла двери.
Маруся
— НУ-С, довольно возиться, — сказал басок.
И перед Башкиным резкими зелеными углами стал стол. Жандарм тряхнул его за плечо.
— Довольно-с истерик! — назидательно, хмуро сказал полковник. — Говорите дело. Ну-с! — уже крикнул полковник. Кивнул жандармам.
Они, звеня шпорами, вышли вон.
— Эс и эс? Ну? Нечего бабу разыгрывать! — полковник поднялся. — Встать! — крикнул он Башкину в лицо.
И Башкин не знал, какая сила подняла его, и он встал.
— Довольно дурака валять! — крикнул полковник. Офицер тоже стоял, он злыми, обиженными глазами глядел на Башкина.
— Вам сейчас, как честному человеку, предлагают помогать работе государства. Понял? — И полковник вонзил глаза в Башкина, в самые зрачки, вонзил и пригвоздил на миг. — А то, знаешь?
И метнулась искра, и замутилось холодом внутри у Башкина. Острым холодом взвилось под темя. И прошла, продышала секунда.
— Так вот, — тише сказал полковник, — готовы вы содействовать общественному порядку или противодействовать?
— Да… — едва скользнул голосом Башкин.
— Что — да? — и полковник уперся в глаза. — Содействовать?
— Да, — мотнул головой Башкин.
Полковник сел. Офицер тоже сел и что-то мазнул карандашом на бумаге.
— Если да, — продолжал полковник (он все еще держал глазами Башкина), — если да, так содействовать надо не как-нибудь, как вам там вздумается, а так, чтобы это было в соответствии… с видами и действиями… Не выдумывать мне дурацких дел! — вдруг снова встал и заорал полковник. — Шерлоков мне не разыгрывать, чтобы десятки вытравливать! А дело… Дело! Понятно? Садитесь. Башкин стоял.
— Зря денег я кидать не стану! — жиганул глазом полковник. — А теперь марш в камеру! Завтра ротмистр все объяснит. В его распоряжение.
Полковник встал из-за стола и простукал каблуками в боковую дверь.
Офицер встал.
— Отправляйтесь! — сказал он строгим голосом. — И пожалуйста мне без фокусов… — он постучал перстнем по столу, — без этих сеансов!
Офицер больше не взглянул на Башкина. Он свернул бумаги трубкой и вышел в коридор.
— В камеру! — крикнул жандарм с порога.
Башкин встрепенулся: «К себе, скорее к себе. Туда, в камеру, в камерку мою, скорей!» И он чуть не бежал по коридору впереди служителя.
— В камерку, в камерку, в мою камерку… приду, вот сейчас приду, — шептал Башкин, и ноги дергались в коленях и судорожными толчками кидали Башкина по коридору. Он не мог дождаться, пока отворили. В камере стояла койка. Новая солома зашуршала, запружинила. Башкин с любовью похлопал матрац и прижался лицом к подушке. Он стал смотреть в грязную стену. И вдруг — не мысль, а кровь вся сразу изнутри нажала в голову.
— Что же, что же, что же это? — сказал Башкин громко, вслух, и сам испугался своего голоса. Он прижал со всей силы рукой щеку, как будто зубы болели, хотел вскочить, дернулся и снова упал на подушку, — голодная, лохматая голова пошла кругом.
Башкин спал в полуобмороке. А за плечо его шатал, шатал кто-то. Открыл глаза — служитель.
— Вы вперед покушайте, а опосля опять спите на здоровье. И он помогал Башкину подняться на кровати.
— Да, да… Я покушаю, — говорил Башкин, сидя на койке. — Очень, очень… Да, я покушаю… Спасибо… Конечно… — и все ерошил пятерней свои густые, липкие волосы.
Башкин говорил мирным, дружелюбным голосом. Он, шатаясь, сел к столу. Он потянул носом, и запах настоящего борща всем аккордом ударил в ноздри, всей капустой, помидорами, луком, салом, и всех их сразу и в отдельности чуял Башкин, как живых, как родных, как радостную встречу. Ложка прыгала в руке, обжигались сладко губ��. Башкин тремя пальцами рвал мякиш ситного хлеба. Он ел и дурел от борща. Он опрокинул остатки в рот и обтер хлебом миску. Прожевал и обтер коркой насухо. Он сидел, как пьяный, и глядел в пустую миску.
Когда клякнул замок, Башкин перевел туманные глаза на дверь и глядел с тупой улыбкой. Тот же служитель вошел. На руке нес сложенную одежду.
— Вот, переоденьтесь в свое обратно же, — и он положил на койку одежду.
Башкин кивнул головой.
— Да, да… Очень… Конечно…
А от живота теплота поднималась к груди, и в истоме тянулись ноги. Глаза слипались. Башкин повалился на койку.
«А что будет? — слабо толкнуло в голове. — А ничего не будет. Уж все было. — Он завернулся в одеяло. — И вообще ничего не бывает. Чепуха одна», — слабо бродила хмельная мысль.
И Башкин заснул. По-настоящему, плотным камнем, носом в стену.
— Ну, одевайтесь и пошли. Требуют господин ротмистр. — Служитель стоял над ним. — Одевайтесь в свое. А то так ведь стыдно. На что похоже? Вроде утопленник или, прямо сказать… обезьяна.
Он держал чистую рубаху, которую успел смять ногами Башкин.
— Живо одевайтеся, бо ждут. И воротничок цепляйте.
Башкин с тревогой одевался. Да, его одежда, наспех, кое-как починенная. Она потрескивала, когда надергивал ее как попало Башкин. Служитель помогал ему.
— А это куда же идти? — с одышкой спрашивал Башкин.
— Отведут. Там знают. Скорей надо. И пальто надевайте и все. Чтоб в полном виде.
Башкин пошел теперь за служителем. Лестница была освещена, и в окнах была чернота.
Внизу хлопнули двери, затопала человечья возня, и сдавленный голос крикнул:
— Поговори мне еще!
Башкина подстегнуло, он поддал ходу. Служитель привел его к тому же кабинету, где он первый раз говорил с офицером.
— Пальто здесь повесьте, — сказал жандарм, — доложу сейчас.
Башкин на скорую руку подбирал речь, какую он скажет офицеру. «Прежде всего, во-первых, самое первое, — задыхалась мысль, — я не хочу служить. Я не нуждаюсь в службе, мне не надо службы. — Башкин загнул уж три пальца. — Почему полковник беспокоится, что я буду даром деньги брать? Я не буду денег брать ни даром, никак. Это — в-пятых, — и Башкин судорожно зажал кулак. — И потом, пусть я сочувствую, но я не способен, просто знаю, что не способен, наверное, подлинно знаю, как свои пять пальцев, — и Башкин растопырил перед лицом свободную руку. — И поэтому я ничем быть полезным не берусь и считаю нечестным, да! именно бесчестным что-либо обещать. И это все надо сейчас же и сразу и категорически отчитать — и все! Прямо с порога». Башкин боялся забыть аргументы и со страхом, чтоб какой-нибудь не выпал, как перед экзаменом, задыхаясь, твердил в голове, шепча губами: