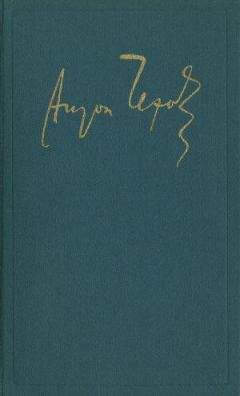Антон Чехов - Пьесы. 1889-1891
Провал «Лешего» сильно отозвался на Чехове. С. Ф. Рассохин позднее вспоминал: «Особенно заметной была горечь в его словах, когда в Шелапутинском театре, при антрепризе Абрамовой, провалился его „Леший“…» (<Ф. Мухортов.> Дебюты Чехова-драматурга. «Иванов» и «Медведь» у Корша. – «Раннее утро», 1910, 17 января, № 13. Подпись: Ор.). Когда через много лет Чехов припоминал особенно разительные примеры неуспеха пьес, он назвал два своих произведения: «Мне шикали так, как ни одному автору не шикали. – И за „Лешего“ и за „Чайку“» (А. Федоров. А. П. Чехов. – «Южные записки», 1904, № 34 от 1 августа, стр. 24; сб. «О Чехове. Воспоминания и статьи». М., 1910, стр. 298).
4
К периоду конца 80 – начала 90-х годов относится ряд неосуществленных драматургических замыслов Чехова.
В процессе работы над «Лешим», когда первоначальный план совместного создания пьесы с Сувориным был отставлен, у него зародился другой замысел совместной работы: писать вместе с Сувориным историческую драму. В связи с этим в конце 1888 г. он предложил Суворину ряд сюжетов: «Давайте напишем трагедию „Олоферн“ на мотив оперы „Юдифь“, где заставим Юдифь влюбиться в Олоферна; хороший полководец погиб от жидовской хитрости… Сюжетов много. Можно „Соломона“ написать, можно взять Наполеона III и Евгению или Наполеона I на Эльбе…» (15 ноября 1888 г.).
К замыслу «Соломона» относится сохранившийся в бумагах Чехова отрывок с монологом Соломона, которого бессонной ночью терзают мучительные раздумья о «непостижимых тайнах» бытия (см. т. XVII Сочинений).
Леонтьев (Щеглов) в своих мемуарах упоминает о замысле драматического этюда «В корчме», который был ему рассказан Чеховым в конце января 1889 г.: «Помню, дня за два, за три до петербургского представления „Иванова“ он очень волновался его недостатками и условностями и импровизировал мне по этому поводу мотив совсем своеобразного одноактного драматического этюда „В корчме“ – нечто вроде живой картины, отпечатлевавшей в перемежающихся настроениях повседневную жизнь толпы…
– Понимаете, при поднятии занавеса на сцене совсем темно, хоть глаз выколи… За окном гроза, в трубе воет ветер, и молния изредка освещает группы ночлежников, спящих вповалку, как попало… Корчма грязная, неприютная, с сырыми, облезлыми стенами… Но вот буря стихает… слышно, как визжит дверь на блоке, и в корчму входит новый человек… какой-нибудь заблудившийся прохожий – лицо интеллигентное, утомленное. Светает… Многие пробуждаются и с любопытством оглядывают незнакомца… Завязывается разговор, и так далее. Понимаете, что-нибудь в этом духе… А насчет „Иванова“ оставьте, – резко оборвал он, – это не то, не то!.. Нельзя театру замерзать на одной точке!..
Как ни случайна и отрывочна приведенная драматическая фантазия, но она очень характерна для Чехова как драматурга и может быть отмечена как первый зародыш „пьесы с настроением“ – новый, до чрезвычайности сложный род, нашедший такого талантливого толкователя, как К. С. Станиславский» (Ив. Щеглов. Из воспоминаний об Антоне Чехове. – «Нива». Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения, 1905, № 6, стлб. 255; Чехов в воспоминаниях, 1954, стр. 159).
Начало рассказанной Леонтьевым (Щегловым) «драматической фантазии» отдельными моментами напоминает сюжет чеховского этюда «На большой дороге» (см. т. XI Сочинений). По-видимому, Чехов в своей импровизации использовал мотивы этого написанного им ранее и запрещенного цензурой произведения.
Незадолго до создания «Татьяны Репиной» Чехов говорил Суворину о намерении использовать сюжет его водевиля «Мужское горе»: «В мае я из Вашего „Мужского горя“ сделаю смешную трагедию. Мужскую роль (она сделана отлично) я оставлю в неприкосновенности, а супругу дам совсем новую. Оба они у меня будут всерьез валять» (14 февраля 1889 г.).
Летом 1889 г., забросив наполовину завершенного «Лешего», который предназначался для Александринского театра, Чехов замышлял еще одну пьесу – для театра Корша – и делился этими планами с находившимся в Кисловодске Н. Н. Оболонским: «Быть может, я приеду в Кисловодск, но не раньше августа <…> А если приеду, то непременно напишу 3-хактную пьесу для Корша» (4 июня 1889 г.).
В 1892 г. Чехов хотел заняться переделкой драмы Г. Зудермана «Гибель Содома», о чем 6 марта сообщал Суворину. Перевод ее он просил сделать Л. С. Мизинову (см. письма 16 и 27 июля 1892 г.). Работой Чехова заинтересовался Ф. А. Корш, который просил его поторопиться: «…Как движется „Sodoms Ende“? У Журавлевой бенефис 9 октября – я ей наобещал Ваш труд, и она меня кушает с утра до ночи. Ради бога, порадуйте утешительной весточкой!» (7 сентября 1892 г. – ГБЛ). Вскоре Корш опять напоминал Чехову о пьесе: «Перевод „Гибели Содома“ разрешен цензурой к представлению, и один из моих артистов (Трубецкой) заявил его на бенефис (19 ноября). В переводе драма груба и реальна до антихудожественности. Неужели нет надежды на то, что Вы приложите к ней Вашу талантливую руку и сделаете ее репертуарной пьесой России??» (13 октября 1892 г. – там же).
В том же году Чехов задумал пьесу о некоем фразистом, любящем порисоваться господине. Об этом замысле Чехов сообщал в письме Суворину 31 марта 1892 г.: «Когда буду писать пьесу, мне понадобится Берне. Где его можно достать? Это один из тех очень умных умов, которые так любят евреи и узкие люди». К замыслу пьесы Чехов вернулся через два года. Собираясь в Крым, он снова просил Суворина выслать ему книжку Бёрне и более подробно рассказал о характере задуманного лица: «Я хочу вывести в пьесе господина, который постоянно ссылается на Гейне и Людвига Берне. Женщинам, которые его любят, он говорит, как Инсаров в „Накануне“: „Так здравствуй, жена моя перед богом и людьми!“. Оставаясь на сцене solo или с женщиной, он ломается, корчит из себя Лассаля, будущего президента республики; около же мужчин он молчит с таинственным видом и при малейших столкновениях с ними делается у него истерика. Он православный, но брюнет и по фамилии Гинзельт. Хочет издавать газету» (16 февраля 1894 г.). Однако и на этот раз пьеса не была написана: «Пьесы в Крыму я не писал, хотя и намерен был; не хотелось», – объяснял он Суворину 10 апреля 1894 г., вернувшись из Ялты.
К 1892 г. относится также замысел комедии «Портсигар», о котором Чехов рассказал Суворину 4 июня: «Есть у меня интересный сюжет для комедии, но не придумал еще конца. Кто изобретет новые концы для пьес, тот откроет новую эру. Не даются подлые концы! Герой или женись или застрелись, другого выхода нет. Называется моя будущая комедия так: „Портсигар“. Не стану писать ее, пока не придумаю конца, такого же заковыристого, как начало. А придумаю конец, напишу ее в две недели».
Еще одну пьесу – «одноактную комедию» – Чехов обещал в 1892 г. актрисе К. А. Каратыгиной. Об этой пьесе она напоминала ему в декабре 1892 г. из Новочеркасска: «Бенефис на носу, 15–20 января, все упование на него. А Вы обещали написать одноактную комедию с хорошей характерной ролью для меня окаянной» (ГБЛ).
Украинская актриса М. К. Заньковецкая, с которой Чехов познакомился в 1892 г., вспоминала, как он уговаривал ее «перейти на русскую сцену» и убеждал, что «на русской сцене дорога шире»: «Обещал написать пьесу, в которой для меня будет одна роль исключительно на украинском языке. Потом как-то говорил, что уже пишет такую пьесу, но о дальнейшей ее судьбе я ничего не знаю…» (ЛН, т. 68, стр. 593).
Сохранилось несколько отрывочных свидетельств о какой-то пьесе или пьесах, задуманных Чеховым в конце 1893 – начале 1894 г. Возможно, то были замыслы узловых эпизодов или отдельных фрагментов будущей «Чайки», однако не исключено, что на том этапе они относились не к одной, а к нескольким разным, не связанным друг с другом пьесам.
Один из этих замыслов – «водевиль», герой которого кончает самоубийством. Толчок к рождению замысла дала встреча Чехова осенью 1893 г. с актером П. Н. Орленевым в театре Корша. Орленев играл в этот вечер в фарсе Д. А. Мансфельда «С места в карьер» (первое представление состоялось 15 октября 1893 г.) и обратил внимание Чехова своей необычной манерой исполнения – ярким драматизмом в комической роли. По воспоминанию Орленева, Чехов в разговоре с ним после представления заявил о желании написать специально для него комедийную роль с трагическим концом: «А знаете, – сказал он, мягко улыбаясь мне, – глядя на вашу игру, мне хочется написать водевиль, который кончается самоубийством…» (Павел Орленев. Мои встречи с Чеховым (Из воспоминаний). – «Искусство», 1929, № 5–6, стр. 30; Чехов в воспоминаниях, 1954, стр. 422).
Другой замысел был связан с намерением Чехова писать пьесу для театра Корша (точнее – для Л. Б. Яворской, которая тогда играла на сцене этого театра) – с «увлекательным» сюжетом и заключительной репликой героини: «Сон!» (ср. в «Чайке» последнюю реплику Нины Заречной во II акте). Об этой «драме» в шутливом тоне отзывалась Мизинова в письме Чехову 23 декабря 1893 г.: «В „Эрмитаже“ половые спрашивают, отчего вас давно не видно. Я отвечаю, что вы заняты – пишете для Яворской драму к ее бенефису» (ГБЛ). Накануне бенефиса к Чехову обратилась и сама Яворская с напоминанием о пьесе: «Надеюсь, Вы помните данное мне обещание написать для меня хотя одноактную пиесу. Сюжет вы мне рассказали, он до того увлекателен, что я до сих пор под обаянием его и решила почему-то, что пиеса будет называться „Грезы“. Это отвечает заключительным словам героини: „Сон!“» (2 февраля 1894 г. – ГБЛ).