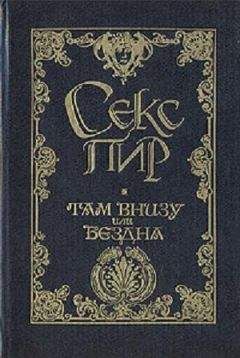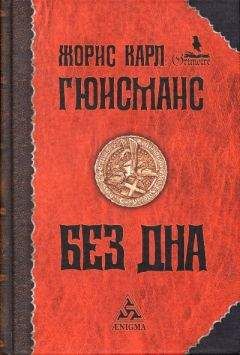Жорис-Карл Гюисманс - На пути
Во всяком случае, он святой человек; в нем совсем ничего нет от вкрадчиво-уклончивых повадок других духовных лиц. Кроме нескольких жестов: манеры засовывать руки за пояс, прятать их в рукава, во время беседы часто делать шажок назад, кроме невинной мании вставлять в речь латинские словечки, он ничем не похож на своих замшелых собратьев — ни разговором, ни поведением. Он обожает мистику и древнее пение; необыкновенный человек; с каким же тщанием его для меня подобрали на небесах!»
— Так-так, а ведь уже подъезжаем, — проговорил он, посмотрев на часы. — Пожалуй, я и проголодался: что ж, прекрасно, через четверть часа будем уже в Сен-Ландри.
Он барабанил пальцами по оконному стеклу, смотрел на пробегающие за окном поля и улетающие леса, курил, снял чемоданы; наконец поезд подошел к станции, и Дюрталь вышел.
Прямо на площади, где стоял крохотный вокзальчик, он увидел трактир, о котором говорил аббат. На кухне была симпатичная женщина; она сказала Дюрталю: «Хорошо, сударь, присаживайтесь, а пока вы обедаете, вам запрягут».
Обед оказался несъедобным: подали телячью голову, провалявшуюся в ведре, пересушенные котлеты, черные от пережаренного масла овощи. У Дюрталя было такое настроение, что эта гадкая еда его позабавила; он удовлетворился и паршивым вином, щипавшим горло, спокойно выпил чашку кофе с песком и перегноем на дне.
Затем сел в тряскую двуколку с молодым возницей; лошадь во весь опор проскакала через деревню и побежала полевой дорогой.
Он спросил было у кучера каких-нибудь подробностей об обители, но тот ничего не знал. «Бываю-то я там часто, — ответил он, — да внутрь не захожу, оставляю тележку у ворот, так что, сами понимаете, ничего рассказать не могу».
Они ехали быстрой рысью; час спустя крестьянин указал кнутом на дорожного рабочего и сказал Дюрталю:
— Им, говорят, муравьи пузо проедают.
— Как это?
— Так не делают же ничего, вот все лето и лежат пузом на земле.
И замолчал.
Дюрталь ни о чем не думал, только, убаюканный покачиваньем повозки, непрерывно курил, пытаясь табачным дымом заглушить неприятные ощущения от съеденного обеда.
Прошел еще час; они свернули в густой лес.
— Близко уже?
— Нет, не близко…
— А обитель видна издалека?
— Вот уж нет как нет: пока не уткнешься, так и не увидишь; она стоит в низине в конце просеки — э, да уж не этой ли! — ответил крестьянин и свернул на заросшую травой дорогу.
— Вон этот вон как раз оттуда, — указал он на бродяжку, скорым шагом пробиравшегося через кусты.
Кучер рассказал Дюрталю: все нищие имеют право пообедать и даже переночевать у траппистов; им стелят такую же постель, как и всем братьям, в комнате рядом с каморкой привратника, но внутрь не пускают.
Когда же Дюрталь спросил, что говорят о монахах жители окрестных деревень, возница явно испугался, как бы не сболтнуть лишнего, и ответил так:
— Да бывает, что и ничего не говорят.
Дюрталь заскучал было, но тут дорога повернула, и он увидел внизу огромное здание.
— Вот они, отцы наши! — сказал крестьянин и стал готовить тормоза для спуска.
С высоты Дюрталь бросил взгляд через крыши, увидел большой сад, лес, а перед садом огромный крест со скрюченной фигурой Спасителя.
Вскоре все скрылось из вида: двуколка опять въехала в заросли и спускалась извилистой дорогой за непроглядной листвой.
Долго и медленно петляя, они наконец подъехали к площадке, в конце которой возвышалась стена с широкими воротами. Повозка остановилась.
— Теперь позвоните, да и все, — сказал Дюрталю возница, показав на железную цепь, свисавшую по стене. — Завтра за вами заехать?
— Нет, не надо.
— Так тут останетесь? — Крестьянин посмотрел на него с удивлением, развернулся и повел лошадь в гору.
Поставив чемодан на землю, Дюрталь, совсем убитый, стоял перед воротами. Сердце его колотилось; от уверенности, от задора и следа не осталось; он бормотал про себя: что же со мной будет?
В панике поскакали видения страшной жизни траппистов: изголодавшееся тело, изнуренное бессонницей, часами лежит, распластавшись, на холодных плитах; трепещущую душу держат в ежовых рукавицах, муштруют, прощупывают, обыскивают до последнего шва, а над обломками пропавшей жизни, над мрачным прибрежьем, о которое в щепы разбился ее корабль, царит жуткая, тюремная, гробовая тишина!
«Боже мой, Боже мой, помилуй мя», — прошептал он и вытер пот со лба.
Машинально Дюрталь оглянулся, как будто ожидал помощи: дорога была пуста, в лесу никого; ни звука не слышно ни в обители, ни за стенами.
Делать нечего, надо решиться и позвонить. Колени его подогнулись, но он потянул за цепь.
За стеной отозвался глухой, надтреснутый, ворчливый какой-то звук колокола.
«Ладно, ладно, не дури», — шептал себе Дюрталь, слушая, как за воротами стучат деревянные башмаки.
Ворота отворились; престарелый монах в буром капуцинском одеянии встретил гостя немым вопросом.
— Я приехал пожить в обители; мне бы отца Этьена.
Монах поклонился, взял чемодан и знаком пригласил гостя за собой.
Сгорбившись, мелкими шажками он прошел через фруктовый сад. Дюрталь с привратником дошли до решетки и повернули направо мимо большого здания, похожего на запустелый замок с двумя флигелями, окружавшими передний двор.
Траппист вошел в то крыло, что у решетки. Дюрталь последовал за ним по коридору со множеством серых крашеных дверей с обеих сторон; на одной из них он прочел: «Приемная».
Вратарь остановился перед ней, поднял деревянную щеколду и завел Дюрталя в комнату. Через несколько минут мерно зазвонил колокол.
Дюрталь уселся и осмотрел помещение; в нем было очень темно, потому что окно наполовину закрывали ставни. Всей мебели — посредине обеденный стол, покрытый старой ковровой скатертью, в углу молитвенная скамеечка, над ней пришпилена картинка: святой Антоний Падуанский баюкает Младенца Иисуса; на другой стене большое Распятие; два вольтеровских кресла и четыре стула расставлены в беспорядке.
Дюрталь вынул из бумажника рекомендательное письмо к отцу госпитальеру. «Как-то он меня встретит? — подумалось ему. — Он хотя бы может разговаривать; ну что ж, там видно будет». Дюрталь как раз услышал шаги по коридору.
И вот явился монах в белой рясе с черным нарамником, свисавшим одним концом с плеча, другим спереди на грудь; он оказался молод и улыбчив.
Монах прочел письмо, взял удивленного Дюрталя за руку, без слов провел через двор в другое крыло здания, толкнул дверь, омочил пальцы в святой воде сам и подал ее гостю.
Они вошли в капеллу. Монах сделал Дюрталю знак преклонить колени на ступеньке перед алтарем и шепотом прочел молитву, затем встал, неспешно вернулся к порогу, вновь подал Дюрталю святой воды и, все так же не разжимая губ и ведя за руку, отвел обратно в приемную.
Там он осведомился о здоровье отца Жеврезена, подхватил чемодан, и они с Дюрталем поднялись по широченной лестнице, которая, казалось, вот-вот рухнет. Над лестницей, доходившей лишь до второго этажа, находилась просторная площадка с большим окном посередине и двумя дверьми по бокам.
Отец Этьен вошел в ту, что направо, прошел через поместительную прихожую, завел Дюрталя в комнату, посвященную, как гласила бумажка на двери, напечатанная крупными буквами, святому Бенедикту, и сказал:
— Мне очень неловко, милостивый государь, что могу предложить вам только это не очень удобное помещение.
— Прекрасная комната! — воскликнул Дюрталь. — И вид очаровательный, — добавил он, подойдя к окну.
— Здесь вам, по крайней мере, будет не душно, — сказал монах и растворил раму.
Внизу находился тот самый сад, через который Дюрталь проходил с братом вратарем: огороженный участок с кривыми сморщенными яблонями, посеребренными лишайником и позолоченными мхом; дальше, за монастырской стеной, тянулось люцерновое поле, пересеченное широкой белой дорогой, исчезавшей за горизонтом, покрытым кружевом листвы.
— Вот что, милостивый государь, — вновь заговорил отец Этьен, — посмотрите, чего вам здесь в келье не хватает, и скажите мне сразу, без церемоний, хорошо? А иначе оба пожалеем: вы что постеснялись попросить надобное, а я потом это замечу и огорчусь, что прежде забыл.
Простая, честная речь трапписта привела Дюрталя в себя. Он взглянул на него: отец госпитальер был молод, лет тридцати. Живое тонкое лицо покрывали розоватые жилки на щеках; носил монах окладистую бороду, а тонзура на голове обрамлялась кружком черных волос. Говорил он несколько торопливо, с улыбкой, засунув руки за широкий кожаный пояс на талии.
— Я скоро вернусь, — продолжал отец госпитальер, — у меня теперь спешная работа, а вы устраивайтесь, как вам будет удобно; если успеете, взгляните на ваш распорядок здесь, в монастыре; он написан на афишке… вон там, на столе… Если угодно, когда вы с ним ознакомитесь, мы о нем поговорим.