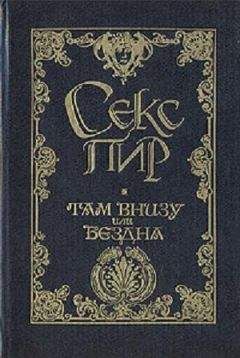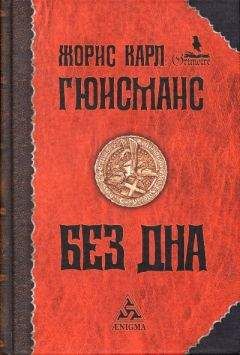Жорис-Карл Гюисманс - На пути
Слезы принесли облегчение; он плакал о своей судьбе, и она казалась ему такой злосчастной, такой жалкой, что тем паче нельзя было не надеяться на помощь; тем не менее он не смел обратиться к Христу, Которого считал не столь доступным для человека, а тихонько разговаривал с Божьей Матерью, моля Ее за него заступиться; он шептал ту молитву, в которой святой Бернард напоминает Богородице: от века не было слышно, чтобы Она оставила кого-либо, прибегавшего к Ее милости.
Из церкви он вышел утешенный, решившийся, а дома его рассеяли сборы в дорогу. Ему казалось, что там он во всем будет нуждаться, и он набивал чемоданы как можно туже: рассовывал по углам сахар, шоколад, чтобы, если понадобится, заглушить страдания постящегося желудка; забирал полотенца, считая, что в монастыре их трудно будет раздобыть; готовил запасы табака и спичек, и это все не считая книг, бумаги, карандашей, чернил, упаковок пирамидона, засунутых под носовые платки, склянки лауданума, упрятанной в носок…
Затянув чемоданы, он посмотрел на часы и подумал: «Завтра в это время я буду трястись в повозке, и скоро уже начнется мое заточение; что ж, на случай будущего нездоровья хорошо будет сразу по приезде позвать священника; если дело не пойдет, я смогу быстро устроить все необходимое и тут же уехать обратно».
— Впрочем, все равно будет один прескверный момент… — прошептал он, входя в Нотр-Дам де Виктуар. Но все его заботы и тревоги исчезли, как только началась вечерня. Дюрталя захватило упоенье этого храма; он заблудился, затонул, затерялся в молитве, возносившейся изо всех уст, и когда вознеслась, перекрещивая воздух, дароносица, почуял, как на него снизошел великий мир.
Вечером, раздеваясь, он вздохнул: «Завтра я лягу спать в келье… Странно все-таки, как подумаешь! Я бы счел за сумасшедшего того, кто пару лет назад сказал бы мне, что я поеду затвориться в обитель траппистов! И если бы я еще отправлялся туда по доброй воле; так нет же, меня толкает неведомая сила; я бегу туда, как собака, подгоняемая пинками!
И что же нынче за время! — заключил он. Каким нечистым должно быть общество, если Бог уже не может быть разборчивым, если Ему приходится подбирать что попало, приводить к Себе даже таких людей, как я!»
Часть II
I
Дюрталь проснулся веселый, бодрый и неожиданно обратил внимание, что в час, назначенный для отъезда в обитель, даже не охнул: он стал донельзя уверен в себе. Попытался было сосредоточиться и помолиться, но ощутил себя еще рассеяннее обычного; удивившись, он решил простукать свою душу и услышал в ней пустоту; было только понятно, что на него вдруг накатило такое расположение духа, когда человек вновь становится ребенком, неспособным собрать внимание, когда всякая изнанка вещей исчезает и все становится забавно.
Он поспешно оделся, сел в экипаж, слез с него, не доезжая до вокзала; тут на него накатил приступ поистине ребяческого самохвальства. Глядя на людей, ходивших по залам, толпившихся у касс, уныло сопровождавших свой багаж, он чуть было не возгордился собой. «Всем этим людям только и заботы, что о своих удовольствиях и делах, думал он, а знали бы они, куда я еду!»
Он устыдился таких дурацких мыслей, сел в купе, где, по счастью, оказался один, и закурил сигаретку с такой мыслью: надо уж покурить, пока есть время. Дюрталь унесся в мечтах, воображая подъезд к монастырю, бродил в уме вокруг него.
Он припомнил, что в одном журнале некогда число монашествующих обоего пола во Франции считалось около двухсот тысяч.
Двести тысяч человек в наше-то время поняли мерзость борьбы за существование, гнусность совокуплений, кошмар родовых мук — это, вообще говоря, честь и спасение нации.
Но дальше он сказал себе, перескочив мыслями с самих монахов на книги, лежащие в чемодане: а все-таки удивительно, насколько несклонен к мистике темперамент французского искусства!
Все писавшие о горнем мире — иностранцы. Дионисий Ареопагит — грек; Экхарт, Таулер, Сузо, сестра Эммерих — немцы; Рейсбрук родился во Фландрии; святая Тереза, святой Иоанн Креста, Мария д’Агреда — испанцы; отец Фабер — англичанин; святой Бонавентура, Анджела из Фолиньо, Маддалена Пацци, Катарина Генуэзская, Иаков Ворагинский — итальянцы…
«Стоп! — спохватился он при последнем имени. — Надо же было захватить с собой “Золотую легенду”. Как же я не догадался, а ведь это настольная книга Средневековья, бодрившая долгими ночами бдений, усугубленных постом, простодушная помощница бессонных молений. Даже самым скептическим душам наших дней «Золотая легенда» кажется подобной листу пергамента, на котором чистые духом изографы рисовали красками на камеди или на яичном белке лики святых по золотому фону. Иаков Ворагинский — это Жан Фуке{56} или Андре Боневё литературной миниатюры, мистической прозы!
Да, непонятно, — вернулся он к прежним раздумьям, — во Франции есть достаточно знаменитые духовные писатели, но почти нет собственно мистиков, да и в живописи то же самое. Настоящие художники примитивов — фламандцы, немцы, итальянцы, но никак не французы, потому что наша бургундская школа вышла из Фландрии.
Нет, отрицать решительно невозможно: конституция нашей расы недостаточно податлива, чтобы прослеживать и разъяснять дела Божии в глубокой сердцевине душ, там, где зарождается всякая мысль, где источник всех представлений; она противится тому, чтобы выразительной силой слов передать шум и тишь благодати, сияющей в разоренном гнезде заблуждений; она неспособна вынести из этого потаенного мира труды о психологии, как святые Тереза и святой Иоанн Креста, или произведения искусства, как сестра Эммерих и агиограф из Ворагине!
Мало того, что поле наше каменисто, почва неблагодарна: где теперь найдешь земледельца, который засеет его, взборонит, подготовит даже не мистическую жатву, а хотя бы духовный урожай, способный утолить алчбу тех немногих, кто блуждает вслепую и гибнет от голода в ледяной пустыне нынешнего времени?
Тот, кто должен стать хлеборобом Царства Небесного, кому назначено возделывать души — священник, — не в силах поднять эту новь.
Семинария сделала его наивным и самовластным, жизнь в миру — теплохладным. Такое впечатление, что Бог отвратился от приходского духовенства, и доказательство тому: оно стало бездарным. Нет больше ни одного священника, проявившего талант на кафедре или в книгах; все они светские люди, хоть и наследники благодати, столь часто встречавшейся в средневековых церквах; есть и другое доказательство, еще сильнее: через рукоположенных пастырей ныне очень редко совершаются обращения к вере. В наши дни тот, кто угоден Богу, обходится без них; Спаситель Сам его толкает, движет его, напрямую действует в нем.
Невежество духовенства, его невоспитанность, непонимание других слоев общества, презрение к мистике, нечувствительность к искусству отняли у него всякое влияние на благородные души. Теперь оно действует лишь на полудетских мозгами пустосвятов; такова, конечно, воля Божья; оно, безусловно, к лучшему, ибо, если бы священник получил власть, если бы мог подвигнуть, оживить свое отвратительное стадо, тромб клерикальной глупости забил бы артерии всей страны, настал бы конец всего искусства, всей литературы во Франции!
Для спасения Церкви остается монах, которого кюре ненавидит, потому что для его образа жизни монастырский быт — постоянный укор, — думал далее Дюрталь. — Да и то, не расстанусь ли я еще с иллюзиями, повидав монастырь вблизи? Но нет, мне повезло, Бог хранит меня; в Париже мне попался один из очень немногих аббатов — не безразличный и не педант; отчего же и в аббатстве мне не встретиться с настоящими монахами?»
Он закурил и посмотрел в окно вагона. Поезд катил по полям; на переднем плане тянулись в клубах дыма телеграфные провода; местность ровная, скучная. Дюрталь забился в угол дивана.
«Каков-то будет мой приезд в монастырь? Тревожно: там ведь не придется говорить лишних слов; я просто покажу отцу госпитальеру письмо… а затем все пойдет само собой!»
Но в общем он чувствовал себя совершенно безмятежно; было даже удивительно не испытывать ни тошноты, ни страха, а даже какой-то задор: «Что ж, славный мой аббат и уверял меня, что я сам себе заранее придумываю кошмары…» И, вспомнив отца Жеврезена, Дюрталь вдруг понял, что, сколько ни бывал у него, ничего не узнал о его прошлом, сблизился с ним не более, нежели в первый день знакомства. Собственно, никто не мешал мне понемногу расспросить обо всем, но мне даже и в голову это не приходило; наша связь так и ограничилась исключительно вопросами искусства и религии; такая упорная сдержанность не порождает волнительной дружбы, а создает своего рода янсенистскую симпатию, тоже не лишенную прелести.
Во всяком случае, он святой человек; в нем совсем ничего нет от вкрадчиво-уклончивых повадок других духовных лиц. Кроме нескольких жестов: манеры засовывать руки за пояс, прятать их в рукава, во время беседы часто делать шажок назад, кроме невинной мании вставлять в речь латинские словечки, он ничем не похож на своих замшелых собратьев — ни разговором, ни поведением. Он обожает мистику и древнее пение; необыкновенный человек; с каким же тщанием его для меня подобрали на небесах!»