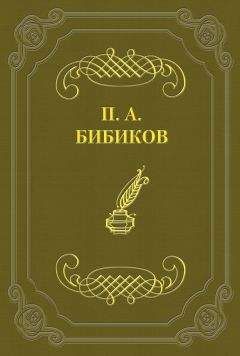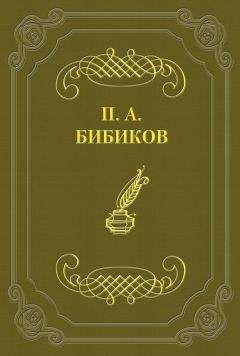Екатерина Леткова - Оборванная переписка
Моя маленькая старушка съ тысячами маленькихъ заботъ вспомнилась мнѣ: какъ она суетилась всю жизнь, какъ волновалась съ утра до вечера и не давала себѣ никогда покоя… И вдругъ въ памяти мелькнулъ ея портретъ съ черными глазами и причесанными на уши черными волосами, послышался сдержанный, короткій смѣхъ, какимъ смѣетесь вы, блеснули слезы… Вы смотрите на меня влажными глазами, и я знаю, что слезы на нихъ отъ того, что вашъ мужъ ушелъ, не простясь съ вами, ушелъ къ той, а вы готовы разрыдаться и стараетесь скрытъ ваше горе отъ меня…
Я старался вспоминать о бабушкѣ, но вы властно заслоняли ее собою; я спрашивалъ себя, неужели этотъ покривившійся холмикъ, приплюснутый плитой, все, что осталось отъ такъ любившей меня старушки; а рядомъ вставали воспоминанія о моей тревожной любви къ вамъ и безсильной ненависти къ вашему мужу… И я уже не боролся съ этими воспоминаніями. Напротивъ: я въ первый разъ отнесся къ нимъ точно со стороны… Я смотрѣлъ на себя, какъ чужой, и съ какимъ-то страннымъ спокойствіемъ припоминалъ всѣ мельчайшія подробности моего униженія…
Кругомъ меня были покривившіеся кресты, прикрытые деревянными кровельками, могилы, закутанныя теплыми пушистыми покровами, бѣлизна безъ тѣней, тишина безъ малѣйшаго звука… Ни печали, ни воздыханія… Вѣчный покой. Громадное безцвѣтное небо ушло куда-то далеко, далеко… И вдругъ все то, что было внутри меня, тоже ушло, я показался себѣ такимъ маленькимъ, такимъ ничтожнымъ съ моими ничтожными волненіями, съ моей ничтожной тоской… И вы мнѣ показались маленькой, маленькой…
Я просидѣлъ на кладбищѣ часа полтора и, когда пришелъ домой, хотѣлъ сейчасъ же написать вамъ. Взялъ перо, но всѣ слова, которыя просились на бумагу, казались слишкомъ грубыми или плоскими для тѣхъ чувствъ, какими я былъ наполненъ вчера.
Сегодня меня опять потянуло на кладбище, на могилы, на покой. Ночью была мятель и все покрыла бѣлымъ ватнымъ покровомъ. Изъ всѣхъ надписей на плитахъ почему-то сталось видно только одно слово: до свиданья.
Да, до свиданья! Черезъ день, черезъ годъ, черезъ нѣсколько лѣтъ — въ сущности не все ли равно? Важно это неизбѣжное: до свиданья.
С. Р.
Простите же мнѣ мое вчерашнее письмо и пишите все про себя, безъ прихорашиванія себя, безъ боязни огорчить меня, безъ одного слова неправдиваго.
IX
Петербургъ, 15 декабря
Дорогой Сергѣй Ильичъ!
Ваше душевное затишье радуетъ меня. Ваше «до свиданья» — огорчаетъ. Я такъ не люблю смерть, такъ боюсь о ней думать, что для меня совершенно чуждо это ваше «до свиданья».
Вы пишете о деревенскомъ кладбищѣ, и у меня сейчасъ же въ головѣ и на языкѣ появляются чьи-то слова:
«Кровелькой красной уютно прикрытъ,
Крестъ деревяный надъ каждымъ стоитъ,
Надписей нѣтъ, о чинахъ ни полслова:
Насыпь да крестъ и гробница готова!»
Это ужасно быть до какой степени начиненной чужими словами! Они постоянно являются вмѣсто своихъ словъ и заслоняютъ свои мысли. Помню, разъ вы, полушутя, полусерьезно, сказали мнѣ:
— Вы такъ сидите въ вашихъ книжкахъ, безъ природы, безъ настоящей жизни, что у васъ скоро не будетъ ни своихъ словъ, ни своихъ мыслей. Будутъ мысли и слова Рёскина, Толстого, но не ваши — Варвары Львовны.
Тогда я разсердилась на васъ, а теперь мнѣ все чаще и чаще приходятъ въ голову ваши слова. И я не только не сержусь на васъ, но безусловно соглашаюсь съ вами. Мы всѣ живемъ не своимъ умомъ, а взятымъ на прокатъ изъ книжки или — еще чаще — изъ газеты. И я — первая!
Прежде, можетъ быть, я не призналась бы въ этомъ даже вамъ. Я помню, какъ я искренно обидѣлась, когда вы — увидя, что я получаю Mercure, сказали мнѣ:
— Зачѣмъ вамъ этотъ журнальчикъ? Все это франтовство новыми фасонами мысли и искусства.
— Вы не можете меня подозрѣвать въ неискренности, отвѣтила я. Вы не можете думать, что я напускаю на себя искусственныя увлеченія для того, чтобы быть dans le train.
И въ этомъ я была права. Я ничего не напускаю на себя. Я люблю и Толстого, и д'Аннунціо, и Ярошенко, и Бёрнъ-Джонса. И все это совершенно искренно. Я люблю красоту и вожусь чуть не цѣлыми днями съ моими уродливыми дѣвочками. И мнѣ кажется, я не лгу во всемъ этомъ…
Но теперь наша переписка заставляетъ меня постоянно провѣрять себя. И я съ ужасомъ вижу, до чего я пропитана чужимя словами. Мнѣ сейчасъ вспомнилось, какъ мы поѣхали разъ весной съ вами и съ дѣтьми за городъ. Вы восхищались уголкомъ сосноваго бора съ вывороченной громадной сосной. Я невольно сказала:
— Это Шишкинъ!
Вы засмѣялись надо мной.
— Природа для васъ повторяетъ картины художниковъ, а не наоборотъ…
И вы тогда разсказали про какого-то вашего пріятеля — петербуржца, пріѣхавшаго къ вамъ въ деревню: каждая старая измученная лошадь казалась ему Холстомѣромъ, прудъ при извѣстномъ освѣщеніи былъ для него типичнымъ Коро, и т. д. въ этомъ родѣ.
Мы всѣ тогда смѣялись надъ вашимъ знакомымъ, но въ сущности это не такъ смѣшно. Неужели мы всѣ такъ начинены искусственными впечатлѣніями, что живая жизнь совершенно заслонилась ими? Вы мнѣ пишете про себя, меня волнуетъ какой-то переломъ въ васъ, а изъ памяти встаютъ чужія слова, заученныя много лѣтъ назадъ и давно, казалось бы, заброшенныя въ какой-то темный уголокъ въ мозгу. Я сержусь на себя, но уже не во власти отдѣлаться отъ этихъ чужихъ словъ. Гдѣ же тутъ «я», «мое», то, что должно одѣться моими словами, можетъ быть, неуклюжими и темными, но моими собственными?
И развѣ я одна такъ? Всѣ или почти всѣ, кругомъ, живутъ въ чужомъ нарядѣ, съ чужими словами, и прячутъ куда-то далеко свои мысли, а часто даже не разберутся, гдѣ кончается свое и начинается чужое… Нужна постоянная работа головы, а можетъ быть, и сердца, чтобы разобраться въ этомъ.
Вотъ вы пишете: безъ одного слова неправдиваго! И меня это смущаетъ. Презрѣніе ко лжи — привилегія сильныхъ людей; намъ, слабымъ, оно не подъ силу. Я помню, вы увидѣли у меня на брелокѣ надпись: «Le mépris de l'argent, le mépris du mensonge, le mépris de la mort»; какъ горячо вы сказали тогда:
— Эти слова не на балаболкахъ носить надо, а дѣтямъ ихъ втолковывать: презирайте деньги, презирайте ложь, презирайте смерть — тогда вы будете людьми.
— Развѣ этому научишь? — возразила я. А наслѣдственность? А среда? А тысячи разныхъ житейскихъ условій разной важности и значенія?
— А сами родители, лгущіе на каждомъ шагу? — прибавили вы, въ моемъ же тонѣ.
Мнѣ показалось, что вы намекаете на Виктора, и я сейчасъ же прервала разговоръ. Я знаю, что онъ лжетъ каждую минуту. А зачѣмъ? Чего онъ боится? Что я уйду отъ него? Но если онъ меня не любитъ, то чего же бояться потерять меня? Не знаю. Только вижу, какъ онъ лжетъ, хитритъ, всячески изворачивается, чтобы не открылась правда. И мнѣ иногда кажется, что Витя видить это, и когда я уличаю его во лжи (что очень часто случается!), я жду, что въ скажетъ мнѣ:
— А папа?! А ты сама, развѣ ты не лжешь каждую минуту?
Вчера утромъ, когда я вышла къ кофе, мужа за столомъ еще не было. Дѣти встаютъ раньше, но Витя обыкновенно присутствуетъ за моимъ кофе. У прибора Виктора лежали два письма. Витя повертѣлъ ихъ и сказалъ:
— Какъ этотъ конвертъ вкусно пахнетъ!
Я понюхала и мнѣ показалось, что и знаю эти духи. Только поэтому я спросила Виктора, когда онъ прочиталъ оба письма:
— Отъ кого это, маленькое?
— Дѣловое! Тоска!
И я увидѣла, что онъ солгалъ. Въ томъ, какъ онъ старался придать себѣ скучающій видъ, какъ дѣланно-спокойно положилъ письмо въ карманъ — видна была сплошная ложь. Я взглянула на Витю. Онъ смотрѣлъ бѣгающими глазами то на отца, то на меня. И вдругъ мнѣ захотѣлось крикнуть:
— Неправда! Это письмо не дѣловое! Отдай намъ его!
Въ это время въ столовую вбѣжалъ Вовикъ со слезами и началъ, на своемъ дѣтскомъ волапюкѣ, жаловаться на няню. Оказалось, что онъ разставилъ въ залѣ стулья «какъ будто» деревья, а посрединѣ сдѣлалъ дорожку.
— Я говорю… я говорю, — разсказывалъ онъ сквозь слезы и захлебываясь отъ волненья, — я говорю: няничка, пойдемъ гулять… Это какъ будто деревья, а это дорожка… А она говоритъ: не деревья!..
И бѣдный Вовикъ, громко плача, продолжалъ:
— Не деревья!.. Стулья, говоритъ!..
Я разсердилась на няню и стала увѣрять Вову, что это настоящія деревья, и пошла съ нимъ гулять между ними. И какъ я была счастлива, что у меня не вырвались тѣ ужасныя слова о письмѣ! Что бы я стала дѣлать съ правдой, которую узнала бы изъ него? Вѣдь правда жизни всегда безпощадна и жестока. И лучше не знать ее!
Какъ то я была въ психіатрической лѣчебницѣ. Среди душевно больныхъ мнѣ показали одну, и расказали, какъ ее привезъ сюда ея мужъ — провинціальный учитель гимназіи какъ онъ плакалъ, разставаясь съ нею, цѣловалъ ея руки, обливая ихъ горькими слезамя. А она блаженно улыбалась и смотрѣла куда то вдаль, точно видѣла тамъ что то. И меня поразило счастливое выраженіе ея лица. Высокая, гибкая, блѣдная, точно мадонна Перуджино — она вся была устремлена куда-то и съ радостной улыбкой слѣдила за кѣмъ-то.