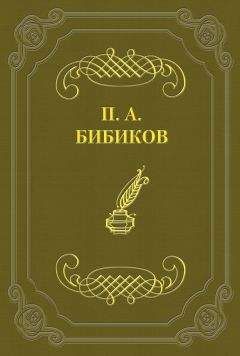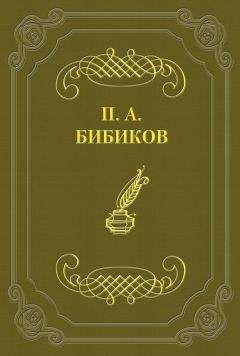Екатерина Леткова - Оборванная переписка
Вы пишете, что я не люблю, когда вы говорите о мужѣ и о дѣтяхъ. Да, каюсь, не люблю! Особенно когда вы говорите о Викторѣ Ивановичѣ! Не только не люблю, но прямо страдаю отъ того, что не могу вамъ отвѣчать такъ, какъ хотѣлъ бы. Когда онъ утонченно-вѣжливо входитъ къ вамъ въ комнату и, попросивъ извиненія за то, что прервалъ нашу бесѣду, начинаетъ докладывать вамъ, гдѣ онъ былъ, кого видѣлъ, я хочу закричать, что все это ложь и… молчу. Когда вы говорите мнѣ о какихъ-то его рыцарскихъ взглядахъ и поступкахъ, мнѣ до боли трудно удержать себя, чтобы не открыть вамъ глаза… Вотъ и теперь: развѣ хорошо, что я пишу это? Не вычеркиваю только потому, что въ нашей перепискѣ не должно быть ничего неискренняго, и еже писахъ — писахъ. Я знаю, что человѣкъ не можетъ, да и не долженъ говорить всѣмъ правду, но онъ обязанъ не говорить неправду, особенно въ перепискѣ съ такимъ близкимъ человѣкомъ, какъ вы мнѣ. Ложь здѣсь была бы просто грѣхомъ. Вы никогда не лжете. Я тоже не люблю и не умѣю лгать. Презрѣніе ко лжи — по моему — необходимое условіе человѣческаго существованія. И у васъ оно есть; можетъ быть, оттого я такъ и привязался къ вамъ. Вы не лжете и вся ваша душевная красота какъ на ладони. Я убѣжденъ, что люди гораздо лучше, чѣмъ они кажутся, — они просто привыкли казаться не тѣмъ, что они на самомъ дѣлѣ, а тѣмъ, что отъ нихъ требуютъ какія-то обстоятельства; они точно боятся показать свои личныя свойства, ломаютъ свою индивидуальность, умышленно принижаютъ себя. Особенно женщины! Онѣ еще больше лгутъ, чѣмъ мужчины, потому что въ нихъ больше рабскихъ чувствъ… Не сердитесь на меня, — это такъ. Я не говорю о такихъ прирожденныхъ лгуньяхъ, какъ, напр., ваша знакомая Тягунова, которая органически не можетъ не солгать, — это комическій персонажъ, надъ такими смѣются, съ ними не считаются. Нѣтъ, я говорю о другой лжи, той, которая уродуетъ человѣка. Представьте себѣ, что никто никогда бы не лгалъ! Сколько обнаружилось бы нравственной красоты, красоты такой, какую при существующихъ условіяхъ и представить себѣ трудно: красоты почти божественной. Вѣдь люди и сами не знаютъ, сколько въ нихъ красоты таится и въ чемъ собственно эта красота. И уродуютъ себя ложью, т. е. трусостью, матерью всѣхъ пороковъ, какъ говорила бабушка Марья Ивановна, потому что лгутъ главнымъ образомъ отъ трусости: нѣтъ смѣлости говорить правду и дѣйствовать по правдѣ.
Такъ давайте: ни одного слова лжи. А если не лгать, то мнѣ нельзя не сказать, что я очень люблю васъ, знаю, что я вамъ не нуженъ, что ваша жизнь полна безъ меня, и все-таки люблю… Вы и представить себѣ не можете, какъ вы завладѣли мной. Когда я сижу за письменнымъ столомъ, заваленнымъ книгами, бумагами, выписками и съ перомъ въ рукѣ — вмѣсто того, чтобы писать — бесѣдую съ вашимъ портретомъ (который вы сняли якобы для меня въ одномъ экземплярѣ, а потомъ, оказалось, дали такой же Баргулину), — я долженъ быть очень смѣшонъ!..
Больше постараюсь не говорить вамъ объ этомъ. Только, пожалуйста, пишите мнѣ и побольше о себѣ. Вы часто повторяете, что говорить много о себѣ — признакъ дурного воспитанія. Неужели и въ письмахъ? Бросьте вы, пожалуйста, вашу благовоспитанность и пишите мнѣ о себѣ какъ можно больше, и чаще, и искреннѣе.
С. Р.
V
Петербургъ, 1 декабря
Дорогой Сергѣй Ильичъ!
Я съ радостью принимаю вашъ призывъ: ни одного слова лжи, но не знаю, справлюсь ли! По крайней мѣрѣ, буду слѣдить за собой. Конечно, что можетъ быть привлекательнѣе искренности и правдивости? И я когда-то вѣрила въ силу и красоту правды. Но когда десять лѣтъ (я замужемъ десятый годъ) слышишь отъ самаго близкаго человѣка, что правдивость — синонимъ безтактности, или донкихотства, или невоспитанности — смотря по формѣ, въ какой она проявляется, — то поневолѣ теряешь вкусъ къ правдѣ и требуешь и отъ себя, и отъ людей чего-то иного: умѣнья приспособляться, умѣнья «казаться», умѣнья многое скрывать, или показывать не такъ, какъ есть на самомъ дѣлѣ.
Вы говорите, что если бы никто не лгалъ, то обнаружилась бы удивительная нравственная красота людей. И я уже не вѣрю этому; напротивъ, мнѣ кажется, что мы увидали бы страшное уродство! Это все равно, что нагота физическая. Я считаю, что изъ ста женщинъ едва ли двѣ могутъ быть не спрятаны платьемъ и всякаго рода приспособленіями, чтобы не оскорблять глазъ. Такъ и въ нравственномъ смыслѣ (если еще не хуже!).
Помнится, въ какомъ-то итальянскомъ разсказѣ является гипнотизеръ, который внушаетъ всѣмъ присутствующимъ на его сеансѣ сказать безъ утайки то, что въ данную минуту волнуетъ его. И обнаружилась совсѣмъ не красота, а злобная зависть, жадность, покупная любовь, — жены узнали, что мужья обманываютъ ихъ, мужья тоже услыхали жестокія признанія, гости увидали, какъ они въ тягость хозяину, который лгалъ, что очень радъ видѣть ихъ, вообще открылось гораздо больше низкаго и постыднаго, чѣмъ хорошаго… Мнѣ кажется, что человѣкъ долженъ непремѣнно прихорашивать и одѣвать по возможности красивѣе свои слова, мысли и чувства, чтобы не коробить, не оскорблять своихъ ближнихъ.
Вы пишете, что моя душевная красота видна оттого, что я не лгу. Мнѣ стыдно читать эти слова. Можетъ быть, вы увидали душевную красоту только потому, что я лгу, и очень искусно лгу. Я надѣваю на себя тотъ душевный нарядъ, который вамъ нравится, все равно, какъ надѣваю — когда знаю, что увижу васъ — одно изъ вашихъ любимыхъ платьевъ. И я — какъ ни больно мнѣ говорить объ этомъ — часто лгала вамъ. Сколько разъ мнѣ хотѣлось разсказать вамъ, какъ много лжи, хитрости, всякой неправды во мнѣ и въ моей счастливой семейной жизни, какъ много мелкихъ увертокъ и сдѣлокъ съ совѣстью, — но я молчала и сознательно поддерживала ваше увлеченіе искренней и чистой женщиной, какую вы видѣли во мнѣ.
И теперь, я хочу говорить одну правду и боюсь… Въ концѣ концовъ чего боюсь? Боюсь потерять васъ, хотя кажется искренно просила васъ уѣхать и забыть меня. Я сознаю, что должна сойти съ вашей дороги, потому что не могу дать вамъ счастья, и, можетъ быть, вѣрный путь къ этому снять съ себя маску.
Вы просите писать о себѣ. Не умѣю я этого. Мы, женщины, почти всегда въ письмахъ «дѣлаемъ стиль». Особенно говоря о себѣ, а правда, кажется, не допускаетъ никакихъ прикрасъ и побрякушекъ. Въ письмѣ же всегда хочется быть интересной. Какъ это сочетать съ правдой?
Въ вашемъ письмѣ есть не хорошія слова, Сергѣй Ильичъ, и мнѣ хочется говорить о нихъ и больно говорить… Больно…
В. Ч.
Ночь.
Вы пишете, что вамъ бывало до боли трудно не открыть мнѣ глаза… На что? На измѣну мужа? Да, измѣну! Я знаю про нее, и вамъ не зачѣмъ было намекать на это… Вѣрьте: всегда найдутся добрые люди, чтобы «открыть глаза» на горе. Уже черезъ два года послѣ нашей свадьбы мнѣ постарались доказать, что Викторъ обманывалъ меня… Я не вѣрила, не могла вѣрить… Онъ былъ такъ нѣженъ и добръ со мной, такъ ласкалъ появившагося тогда на свѣтъ Витю, что у меня не могло уложиться ни въ головѣ, ни въ сердцѣ, что онъ можетъ лгать. А онъ лгалъ, и какъ виртуозно лгалъ! И я вѣрила ему. Не вѣрила ни своимъ глазамъ, ни своимъ ушамъ, а только словамъ этого близкаго и такъ далекаго мнѣ человѣка. А когда я убѣдилась, что онъ лжетъ (это было ровно черезъ три года послѣ нашего супружества) я сошла съ ума: иначе я не могу назвать мое тогдашнее состояніе. Я сдѣлала гадость, ужасную гадостъ, но… объ этомъ когда нибудь послѣ. Теперь я не могу еще дойти до такой правды.
Теперешняя его «исторія», на которую намекаете вы, идетъ уже пятый годъ. Я узнала о ней — опять-таки случайно — года три тому назадъ и три года живу съ этой мучительной тайной. И никто не подозрѣваетъ, что я знаю о существованіи дѣвицы Кучинской. Вы бывали у меня почти каждый день, заставали меня и грустной, и больной, и разстроенной, но никогда, кажется, я ни однимъ словомъ не выдала моей тайны. Разъ, помню, вы спросили меня:
— Вы любите мужа?
Я промолчала.
— Иногда женщины желаютъ казаться любящими женами.
На это я отвѣтила вамъ шуткой:
— Это лучшее противоядіе отъ поклонниковъ.
Вы поняли, что я не хотѣла вамъ отвѣчать серьезно, и умолкли.
А я — если бы и хотѣла отвѣчать — не знала, что сказать вамъ. И теперь не знаю. Когда Викторъ Ирановичъ, послѣ обѣда, уѣзжаетъ въ какія-то засѣданія и возвращается оттуда въ три часа ночи — я съ ума схожу отъ отчаянія, и жду его съ трепетомъ. Когда же онъ пріѣзжаетъ — я тушу у себя огонь и примолкаю, чтобы онъ не замѣтилъ моего ожиданія; я слушаю, какъ онъ тихо ходитъ у себя въ комнатѣ, кашляетъ подавленнымъ кашлемъ, чтобы не разбудить меня и не выдать своего поздняго возвращенія. Потомъ онъ засыпаетъ, а я все ворочаюсь съ боку на бокъ и мучаюсь отъ обиды и, кажется, отъ презрѣнія къ этому человѣку.
Иногда я, сама не зная зачѣмъ, спрашиваю его утромъ:
— Вчера у васъ долго продолжалось засѣданіе?
— Нѣтъ… Не очень… Я въ часъ уже былъ дома.