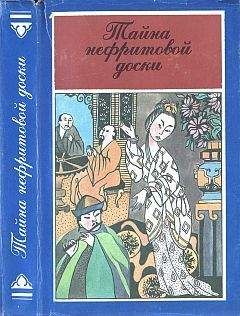Йоханнес Зиммель - Любовь - только слово
Вопрос: Вы говорите о деле всей вашей жизни, господин Мансфельд. Не подвергаете ли вы его большей опасности, не возвращаясь добровольно в Германию и не отдавая себя в руки следствия?
Отец: Нет. Отчего же?
Вопрос: Знаете ли вы, что немецкие власти могут описать ценности на сумму двенадцать с половиной миллионов марок на всех ваших заводах и вилле?
Отец: Как раз и не могут. Повторяю, как раз и не могут!
Вопрос: Что это значит?
Отец: За исключением упомянутой виллы с имуществом, мне в Германии ничего не принадлежит. А виллой господа могут располагать. Пусть повеселятся!
Вопрос: А заводы? Как понимать, что вам в Германии ничего не принадлежит?
Отец: От внимательного взора налоговых органов не могло укрыться, что я превратил заводы Мансфельда в акционерное общество с тридцатью миллионами основного капитала.
Вопрос: А где резиденция нового АО? За границей?
Отец: Без комментариев!
Вопрос: Но финансовое ведомство может все же описать ваши акции.
Отец: Не может, потому что ни я, ни кто-либо из членов моей семьи не имеет ни единой акции.
Вопрос: А у кого же акции?
Отец: Девятнадцать процентов принадлежат моему давнему другу Манфреду Лорду, известному во Франкфурте банкиру, который помогал мне создавать заводы. Разумеется, эти девятнадцать процентов описать нельзя, потому что господин Лорд купил эти акции, как полагается по закону.
Вопрос: Кому принадлежит оставшийся восемьдесят один процент?
Отец: Оставшийся восемьдесят один процент я продал консорциуму бельгийских банков.
Вопрос: Каких?
Отец: Вас это не касается.
Вопрос: Вы их продали с правом на выкуп?
Отец: Без комментариев!
Вопрос: А как будут работать ваши заводы?
Отец: Как и прежде. Власти четко знают, что не имеют права описать даже винтик. Как генеральный директор, я буду отсюда управлять предприятием.
Вопрос: Долго?
Отец: Возможно, еще несколько лет. Когда-нибудь и в Германии налоговые проступки будут прощаться за давностью лет.
Вопрос: И тогда вы однажды вернетесь в Германию и продолжите работать, не заплатив ни пфеннига из украденных двенадцати с половиной миллионов?
Отец: Я вообще не знаю, о чем вы говорите. Я не должен никому ни пфеннига.
Вопрос: Почему ваш маленький сын Оливер все еще в Германии?
Отец: Потому что он так захотел. Он останется в Германии, в Германии сдаст выпускные экзамены и тогда будет работать на моем предприятии. Работать он сможет уже через семь лет.
Вопрос: Вы полагаете, через семь лет вы все еще не сможете работать, поэтому придется ему?
Отец: Ваше замечание я использую как повод…
Глава 8
…прекратить интервью. Доброго вечера, господа, — сказал мой отец и повесил трубку. Так и завершилась пресс-конференция.
Я рассказал обо всем этом Верене. Некоторое время мы молчим, держась за руки. Постепенно ее ладони согрелись. Над домом пронесся реактивный самолет. Издалека доносится детское пение: «Пусть дадут разбойникам пройти по золотым мосткам». Верена спрашивает:
— А что потом?
— Ах, больше ничего особенного. К Новому году распустили всех служащих, и налоговая полиция описала виллу.
— Но тебе ведь надо было где-то жить!
— Комиссар Гарденберг продолжал заботиться обо мне. Сначала некоторое время я жил в гостинице. Даже в неплохой, ведь господин папа каким-то образом переводил деньги — сам-то сидел в безопасности с награбленными миллионами. А потом был детдом.
— Детдом?
— Конечно. Я ведь был ребенком без родителей. Несовершеннолетним. Те, кто имел право на воспитание, сбежали, их не найти. Потом появился опекун и засунул меня в приют.
— Только этого не хватало!
— Я, правда, не хочу жаловаться, но это было проклятое, гадкое время! Теперь ты понимаешь, почему я испытываю такие «нежные» чувства к отцу?
Она молча гладит мою руку.
— Кстати, там я пробыл всего год. Потом был мой первый интернат.
— Интернат! Но ведь это очень дорого!
— К тому времени игра раскрутилась. Твой муж переводил каждый месяц деньги на счет опекуна.
— Мой муж? Но зачем…
— На первый взгляд, из жажды сочувствия и чтобы помочь старому другу, моему отцу. Власти должны были этим довольствоваться. Никому не запретишь ведь дарить другому деньги! На самом деле они, как и прежде, одним миром мазаны. Я уже говорил, твой муж аккуратно получает все переведенные им деньги назад. Не знаю как, но получает. Отцу что-нибудь да придет в голову. Правда, безумно смешно: твой муж и поныне платит за меня каждый месяц, а мы сидим здесь, ты гладишь мою руку, а я…
— Прекрати, — Верена отворачивается.
— Что такое?
— Я никогда не любила мужа, — говорит она. — Я была ему благодарна за то, что он вытащил нас с Эвелин из нужды, была благодарна за красивую жизнь, которую он дал мне, но никогда не любила его. Но я его уважала, до сегодняшнего дня. Для меня Манфред был до сегодняшнего дня как… как его имя! Лорд! Господь Бог! Тот, кто не замешан в грязных делах.
— Сожалею, что разрушил твою иллюзию.
— Ах…
— В качестве утешения: у нас в интернате есть маленький калека. Страшный проныра. Знаешь, он говорит: «Все люди — свиньи».
— Ты тоже в это веришь?
— Гм…
— Но…
— Но что?
— Но… но… Невозможно жить, если так думать!
И вот она снова смотрит на меня умными черными глазами. Меня бросает в жар, я наклоняюсь, целую ее шею и говорю:
— Прости, прости, я так не думаю.
Неожиданно она обвивает меня обеими руками и крепко обнимает. Я чувствую тепло ее тела через одеяло, вдыхаю аромат ее кожи, и мои губы застывают на ее шее. Мы оба замерли. И долго так лежим. Потом она резко отталкивает меня кулачками.
— Верена!
— Ты не знаешь, чего я только не наделала! Со сколькими мужчинами я…
— Я не хочу этого знать. Думаешь, я ангел?
— Но у меня есть ребенок… и возлюбленный…
— Никакого возлюбленного. Только некто, с кем ты спишь.
— А до него у меня был другой! И еще один! И еще! Я шлюха! Я погрязла в разврате! Я ничего не стою! Ни гроша! А замуж я вышла только по расчету, и с первой секунды…
— Теперь дай мне сказать!
— Что?
— Ты прекрасна, — шепчу я и целую ее руки. — Для меня ты прекрасна.
— А мою крошку я склоняю к тому, чтобы она помогала мне в моих предательствах. Я… я… я…
— Ты прекрасна.
— Нет.
— Ну, хорошо, тогда мы друг друга стоим. Ведь я всегда говорил: невероятно, как похожие натуры притягивают друг друга, чуют по запаху. Разве это не удивительно?
— Ты находишь?
— Да, Верена, нахожу.
— Но я не хочу! Не хочу!
— Чего?
— Чтоб это началось снова. С тобой. Не хочу обманывать Энрико!
— Ты обманываешь мужа, так что можешь спокойно обманывать и Энрико.
Она вдруг начинает смеяться. Сначала я думаю, это истерический припадок, но нет, это совершенно нормальный смех. Она смеется до колик, потом кладет руку на живот.
— Ай. Я же знаю, нужно быть осторожной. Ты прав, Оливер, все это очень смешно. Безумно смешно! Вся жизнь смешна!
— Ну вот, видишь, — говорю я. — Моя взяла.
Глава 9
Снова где-то далеко поют дети (там, должно быть, игровая площадка): «Безмолвно и тихо в лесочке стоит человечек один…»
Мы с Вереной долго смотрели друг на друга. Последние фразы мы произносили, друг на друга не глядя. У нее было такое выражение лица, словно она видит меня в первый раз. Вот мы одновременно начали говорить, наши взгляды снова разбежались, она смотрит на одеяло, а я — в окно. Вам это знакомо? Словно мы боялись друг друга. Нет, не друг друга, но каждый самого себя.
— Мой отец…
— А из того, первого интерната ты…
«Из чистого пурпура, правда, сюртук человечек носил…»
— Что ты хотел сказать?
— Нет, что ты хотела сказать?
— Я хотел сказать, отец слушается тетю Лиззи. Он — мазохист. На каникулы я всегда езжу домой. И останавливаюсь не на вилле, а в гостинице. Только если мама не в санатории, я живу дома, — пожимаю плечами. — Дома!
— Она часто лечится в санатории?
— Почти все время. Только из-за нее я все время езжу домой. Иначе бы оставался в Германии.
— Вот как!
— Конечно. Однажды, когда мама как раз была не в санатории, а дома, дорогой тети Лиззи дома не было, и я перерыл ее комнату. Но как! В течение двух часов. Наконец я их нашел.
— Кого?
— Плетки. Поводки для собак, наездничьи хлысты, чего там только не было! Всех цветов. По крайней мере, дюжина плеток была заботливо спрятана в платяном шкафу.
— Она бьет его?
— Полагаю, уже двадцать лет!
— Ну и ну!
— Говорю тебе, это его первая любовь! Как только я нашел плетки, мне совершенно все стало ясно! Она — единственный мужчина из них троих! А моя мать — лишь жалкий дух. А мой отец? Только и слышно: «Лиззи! Лиззи!» У нее доверенности на все его счета. Говорю тебе, она участвует в каждом новом его трюке, в любой коммерческой махинации. Говорю тебе, сейчас отец — ничто, всего-навсего ноль без палочки, шестерка в ее руках, а она — садистка.