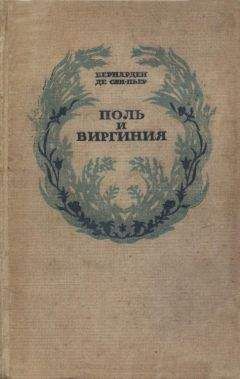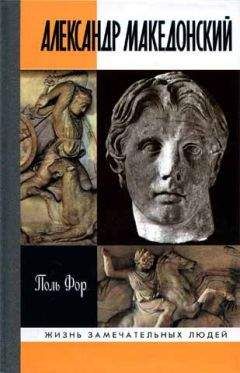Грубиянские годы: биография. Том I - Поль Жан
Тут он вскочил на ноги, оставил непереписанным договор купли-продажи, при составлении коего сегодня как раз и услышал, что Клотар вернулся (и, стало быть, небесное блаженство теперь достижимо), и поспешил в сад графа. Вальт, пока занимался сочинительством, был суверенным хозяином собственной фантазии, но в жизни – только ее слугой: всякий раз, когда она, шаля, сбрасывала цветы и плоды то на колени ему, то на голову, его более серьезное сердце неудержимо стремилось к своему саду, к вершине дерева, и искало соответствующую ветку.
В парке Клотара, надеялся он, произойдет прекрасная встреча. Все окна виллы были распахнуты, но никто из них не выглядывал. Садовник, принявший Вальта за любителя паркового искусства, по обычаю вышел ему навстречу с букетом в руках, надеясь, что посетитель сумеет прочитать этот цветочный швабахер, это телеграфное сообщение, и подарит ему за него несколько грошей. Нотариус сперва вежливо отказывался от цветущего подарка, но в конце концов все-таки принял его, с любезнейшим выражением лица, а потом еще и на словах выразил искреннюю благодарность садовнику, который, со своей стороны, принял самый мрачный вид, потому что не получил ни геллера. Нотариус принялся блаженно прогуливаться по аллеям и темным нишам между кустами, мимо снабженных табличками утесов и стен, зеленых скамеек с видом на красивую панораму… и в каждом таком месте на голову ему слетал цветочный венок, или прямо в сердце – летняя пташка, то есть он чувствовал доподлинную радость, потому что повсюду ему мерещилась клумба, с которой, как он думал, его будущий друг сорвал несколько цветов или плодов быстротечной весны жизни. «Быть может, – говорил себе Готвальт, останавливаясь то тут, то там, – сей благородный юноша именно с этой скамейки долго смотрел на закат – в этих цветущих зарослях предавался сумрачным сердечным грезам – на этом холме, исполнившись умиления, вспомнил о Боге… Вот здесь, рядом со статуей… о, если бы именно здесь он пожал нежную руку своей любимой, если таковая у него есть… ежели Клотар молится, то наверняка здесь, среди могучих деревьев».
В парке почти не осталось скамеек, на которые Вальт не садился бы, предполагая, что раньше на них сидел Клотар.
– Божественный английский сад! – сказал Вальт, уже уходя, молчаливому садовнику у ворот. – Вечером я еще раз сюда загляну, дорогой мой.
Он и в самом деле в обговоренное время открыл садовую калитку. Со стороны виллы доносилась музыка. Вальт вместе со своими желаниями укрылся в красивейшем гроте парка. Из скальной стены за его спиной пробивались источники и нависающие над ними деревья. Прямо перед ним ровная река изливала свое длинное зеркало в изложницу пойменного луга. Крылья ветряных мельниц неслышно крутились на далеких холмах. Мягкий вечерний ветер взметывал красное солнечное золото из цветов, растущих выше по склону. Женская статуя, спрятав руки под одеянием весталки, стояла, наклонив голову, рядом с ним. Звуки, доносящиеся с виллы, повисали, как светлые звезды, в плеске источников и просверкивали сквозь него. Поскольку Готвальт не знал, на каком музыкальном инструменте играет Клотар, он предпочел дать ему в руки все инструменты: ведь каждый из них высказывал какую-то возвышенную, глубокую мысль, которую Вальт хотел бы приписать сердцу юного графа.
Под эту сладостную мелодию нотариус уже много раз мысленно рисовал себе то неслыханное блаженство, которое он почувствует, когда юноша вдруг войдет в грот и скажет: «Готвальт, почему ты стоишь здесь, такой одинокий? Пойдем ко мне, ведь я твой друг».
Чтобы помочь себе, Вальт сочинил несколько длинностиший в честь Ионатана (так он хотел зашифровать имя графа в хаслауском «Вестнике»), которые, правда, плохо ему удались, потому что его внутренний человек был сейчас слишком возбужденным и трепетным, чтобы твердо держать поэтическую кисть. Два других длинностишия – к которым он хотел для виду подмешать первые, чтобы публикация в «Вестнике» выглядела так, будто всё это поэзия и только, – получились куда лучше и именовались следующим образом:
У водопада с радугой
О, как незыблемо парит над свирепым водным потоком мирная радуга! Так и Господь стоит на небе, и потоки времен яростно обрушиваются вниз, но над всяким струением волн парит установленная Им арка мира.
Любовь как сфинкс
Дружелюбно смотрит на тебя это чуждое существо, и прекрасный лик его улыбается. Но если ты не постигнешь его, оно ударит когтистой лапой.
Тут пришел садовник и попросил Вальта удалиться – потому что, мол, пора закрывать сад. Нотариус поблагодарил и послушно направился к выходу. Но потом, уже на улице, где жил театральный портной, он, к своему изумлению, разминулся с запряженной шестеркой лошадей и освещаемой факелами каретой, в которой сидели Клотар и его спутники, – так что нотариус понял: его чувства в саду были тщетными. Он еще в течение получаса прохаживался под окнами Вульта, не видя брата – хотя тот его видел, – чтобы хоть в мыслях ощутить близость к нему.
На следующий день Вальту повезло: он встретил графа – который беседовал по-английски со старой скрюченной дамой – в одной из садовых аллей и, с влюбленным взором, снял шляпу перед серьезным красивым юношей. Нотариусу удалось столкнуться с ним еще шесть или семь раз, и столько же раз он – не зная правил этикета, касающихся садовой одежды, – снимал в знак приветствия шляпу; графу в конце концов это так надоело, что он предпочел скрыться в доме. Садовник, уже давно установивший наблюдение над Вальтом – который, со своей стороны, пристально наблюдал за графским домом, – был сбит с толку и подумал, что не зря заподозрил неладное.
Поздним вечером, в тот же день, к нотариусу явился посланец от польского генерала Заблоцкого – владельца известного в Эльтерляйне рыцарского замка – с распоряжением завтра с утра, ровно к 11 часам, быть наготове, потому что предстоит кое-какая работа. «О Господи, если бы мой Клотар заказал у меня какой-то документ! Можно ли представить себе более достойный повод для знакомства?» – подумал Вальт. На следующий день, ровно в 11 часов, явился тот же посланец и отменил прежнюю договоренность. Однако за хозяйским столом Вальт услышал, какое небесное тело пролетело поблизости от него, в последний момент свернув в сторону.
Дело в том, что собравшиеся за завтраком принялись единодушно восхвалять божественный нрав некоей «генеральской Вины»… В бедной и бренной человеческой груди таятся самые разные вечности: вечные желания, вечные страхи, вечные образы – и, среди прочего, вечные звуки. Само звукосочетание «Вина» – да даже и родственные ему сочетания «Винхен», «Вена», «Минна» и «Мюнхен» – так же сильно воздействовало на нотариуса, как если бы он… вдохнул аромат золотистой примулы, и на этом облачке ароматов так долго странствовал в новых иноземных мирах, пока не обнаружил, что на самом деле видит росисто раскинувшиеся самые ранние миры своей жизни. И причина такого воздействия в обоих случаях была одна. Дело в том, что в детстве, когда он временно ослеп, заболев оспой, фройляйн Вина – дочь генерала Заблоцкого, которому принадлежала половина деревни, или так называемые «левые», – вместе с матерью однажды пришла к шультгейсу. В семье сохранилось воспоминание, как эта маленькая девочка сказала, что бедный малыш совсем как мертвый и она хочет отдать ему все свои примулы, раз уж ей запретили подать ему руку. Нотариус утверждал, что и сейчас еще ясно и сладостно помнит, как его, слепого, запах примул пропитал насквозь, и буквально опьянил, и развоплотил, и как он почувствовал мучительное желание прикоснуться хотя бы к кончикам пальцев девочки, чей сладкий голосок, как казалось, прилетал к нему издалека, издалека, – и как он прижимал прохладные лепестки цветов к своим горячим губам, пока цветы не умерли. Эту цветочную историю, рассказывал он, ему рассказывали бессчетное количество раз, и когда он болел, и потом, когда уже был здоров, но он так и не выпустил Вину из сумерек детства и позже никогда не смотрел на нее, поскольку почитал такое грехом против этого нежного создания, слишком святого для дневного света. Если значительные поэты соединяют свои руки и крылья, чтобы вознести красоту, как на щите Минервы, сквозь тучи, выше слабой луны, прямо под ночные солнца, то Вальт вознес невидимую для него, сладко говорящую Вину гораздо выше – в темную глубочайшую звездную синеву, где высочайшее и прекраснейшее горит и сияет, не показывая лучи нам, пребывающим далеко внизу: как гигантские центральные солнца Гершеля, которые из-за своей бесконечной величины притягивают к себе собственный бесконечный блеск и парят, невидимые, в огненном сиянии.