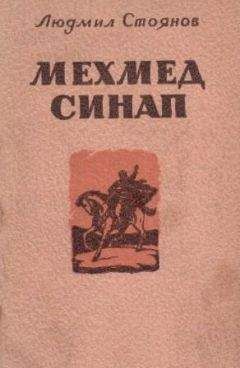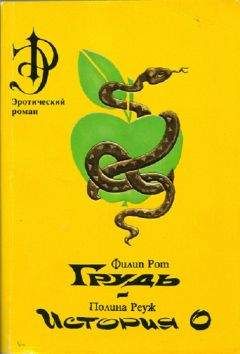Людмил Стоянов - Избранная проза
— Как ты, Захарий? — спрашиваю я, чтобы хоть немного расшевелить его. — Как себя чувствуешь? Что, очень тебе худо?
Он тяжело вздыхает, поворачивает голову и долго смотрит на меня, потом указывает рукой на бок, и я догадываюсь, что ему что-то мешает! Протягиваю руку и нащупываю револьвер, — да, да, мне понятна твоя мысль, паренек. Он указывает затем на лоб и, сипя, едва слышно просит:
— Пристрели меня, пристрели…
— Нет, Захарий, нет, — говорю ему, — крепись, скоро полегчает, уж такая она, хворь эта проклятая.
Он делает неопределенный жест, словно желая сказать: «Кончено мое дело…»
Дорога спускается под гору, и всякий раз на особо крутых местах он всем телом наваливается на меня, затем мало-помалу снова сползает и забивается в угол телеги, упершись коленями почти в подбородок. Бледного света звезд достаточно, чтобы увидеть, как ему худо.
Наконец мы выезжаем на более ровную дорогу, и повозка ускоряет ход. Я забываюсь в мучительном, кошмарном сне. Уже светает, и силуэты деревьев, скал, кустов, выплывая из темноты, принимают самые необыкновенные, причудливые очертания.
Послышалось журчанье родника, и повозка стала. Напоив лошадей, возница заглядывает в телегу, мгновение медлит и затем равнодушно произносит:
— Гляди-ка, помер…
2 В селе — холераТпру-у-у!
Повозка останавливается. Нужно решить, что делать дальше.
Табличка ясно говорит, что наш путь лежит именно сюда. В то время как другие повозки и пешеходы, напуганные надписью, сворачивают в сторону и делают большой крюк, прежде чем снова выбраться на шоссе, мы направляемся прямо в село, в больницу для холерных.
Возница замялся было в нерешительности, затем хлестнул лошадей, и они равнодушно потащились по кривой пыльной улице мимо дворов, где мелькают фигуры женщин, снуют куры.
Лазарет обосновался в ветхом двухэтажном здании сельской школы о большим огороженным двором, где всего несколько недель тому назад бегали и играли в прятки деревенские ребятишки, а сейчас лежат группами несчастные люди, брошенные в пасть смерти ради «величия» Болгарии!
— Эй, люди добрые, здесь, что ли, холерный лазарет? — спрашивает возчик, остановив лошадей.
— Здесь, — отвечает ему какой-то солдат, спешащий с подносом, уставленным кружками, — обожди там…
Стоим и ждем. Палатка во дворе, — должно быть, кухня; не обращая на нас никакого внимания, солдат курсирует туда и обратно, разнося чай — единственное, что разрешается употреблять холерным. Солнце поднялось уже высоко и слепит глаза; на дне телеги, скрюченный судорогами нечеловеческих мук, лежит Захарий. Соседство с трупом — не из приятных; он не имеет уже ничего общего с живым миром; его удел — земля и тлен.
Бедный Захарий! Подозревают ли его родные — мать, сестры, братья, — что он уже не вернется к ним? Что он лежит здесь, в телеге, с остекленевшим взором, небрежно брошенный, как околевший пес? Вряд ли! Может быть, они сейчас, в эту самую минуту говорят о нем, представляя его таким, каким знали, — здоровым и бодрым, веселым, беззаботным и ласковым… Я не свожу с него глаз, и страх за себя начинает овладевать мной. Эгоистическая боязнь за собственную шкуру, будто орлиные когти, вонзается мне в сердце. Вот, значит, как я буду выглядеть; где гарантия, что и я завтра не буду лежать вот так же, свернувшись кольцом, безжизненный и никому не нужный… Несчастный Захарий, он уже не стоит даже своей заляпанной грязью шинели, которую завтра снимут с него как казенное имущество, чтобы предать его земле в чем мать родила…
Возница теряет терпение; он бормочет себе под нос ругательства, проклиная врачей, которые вконец запутались и не знают, что делать.
— Так и до вечера прождать можно. Пока-то им заблагорассудится… — Затем многозначительно добавляет: — Болгарские порядки!
Я говорю ему:
— Скажи, что с нами покойник. Пусть заберут его.
Возница кричит:
— Эй, люди, оглохли вы, что ли? Заберите покойника.
На его крик подошел небольшого роста плотный человек в очках, с лысой, лоснящейся головой и недовольно сказал:
— Чего орешь? Не на ярмарке.
Возница ничего не ответил. Он добился своего, а остальное ему не важно. И только негромко посоветовал:
— Взгляни-ка на того, там, в повозке!
Человек посмотрел сквозь очки, словно желая получше оценить меня в роли мертвеца, и с улыбкой сказал:
— Если бы все покойники были вроде этого…
— Да нет, там, в повозке, — разъяснил ему возница.
Человек подошел поближе.
— В дороге помер, час тому назад.
Нагнувшись, человек взглянул в лицо мертвецу и сказал:
— Принять его не можем. Здесь не кладбище.
— Как?
— Вези его обратно в часть, пусть там хоронят.
— Повезу… как бы не так! — ворчит возница. — Куда я его повезу? Мне его живым вручили, он по дороге помер… Я-то здесь при чем?.. Так уж ему на роду было написано!..
— В каком он чине?
— Юнкер.
Человек заколебался:
— Обожди, я господина доктора спрошу, — и, повернув обратно, скрылся в белой палатке.
Сколько еще будут тянуться эти нескончаемые переговоры? Чувствую, что теряю силы; продолжительное сидение утомило меня, хочется лечь, уснуть…
На дворе показываются санитары с двумя носилками, за ними следует человек в очках, а на шаг впереди него — доктор; все они в белых халатах, но роли у всех разные.
Нас снимают и укладывают на носилки. Мы с Захарием снова лежим рядом, но я уже не могу взглянуть на него без острого чувства жалости: спазмы сжимают горло, на глаза навертываются слезы…
Составив протокол на умершего, они унесли его в «морг» — длинный дровяной навес, куда складывали мертвых. Но неужели это все мертвецы? Два длинных ряда застывших тел, с вытянутыми руками и странно остекленевшими глазами; они лежат там, ждут, пока их занесут в список и похоронят.
Я медленно рассматриваю их, когда меня несут на носилках, не испытывая никакого ужаса после всего, что пришлось пережить самому.
Нижний этаж школы — это скорее погреб, ибо там нет пола. На разостланной прямо на земле соломе лежат больные. Сквозь низкие окна сюда никогда не проникает солнечный свет. Тут около двадцати холерных, разбросавшихся в полузабытьи, высохших, посиневших, страшных; стенания и вой оглашают подземелье. Сколько из них доживет до завтра?
Вот и человек в очках. Он входит и опрашивает каждого в отдельности:
— Ну, дружок, как себя буйствуешь?
Некоторые приподымаются и беспомощно смотрят на него, надеясь прочесть во взгляде фельдшера хоть малейшую надежду на выздоровление. Другие не удостаивают его никакого внимания, даже не открывают глаз — лежат и стонут, в беспамятстве, сжавшись в комок. Третьи — или в агонии, или уже отдали богу душу и лежат успокоенные и безразличные, с печатью последнего вздоха на лице. Этих, толкнув ногой и убедившись, что они не подают признаков жизни, он приказывает унести в морг.
Наконец он подходит ко мне и задает свой обычный вопрос.
— Как чувствуешь себя, дружок?
— Слаб я очень, господин доктор, не держусь на ногах.
— Слаб — это верно, но кризис, пожалуй, уже позади. Откуда родом-то?
— Из Пловдива.
— Из Пловдива? Погоди, погоди… А чем занимался?
— Студент.
— Так. Знакомое лицо. Смотри-ка, ведь еще немного, и пропал бы.
Оказывается, он знает меня — мы даже дальние родственники. Он поспешно вышел, а через некоторое время появились два санитара о носилками и понесли меня наверх, в небольшую комнату с кроватями. Здесь на меня повеяло другим ветром. Больные лежат спокойно, мирно разговаривают, попивают чаек и терпеливо ждут. Это офицеры — люди другого сорта, повелители вьючной скотины, каковою являемся мы, простые солдаты. Здесь представлены все чины: полковники, майоры, поручики, подпоручики. Среди них встречаются румяные, откормленные — просто диву даешься, что это больные холерой.
Сколько забот уделяется им, сколько внимания! В этом сером халате я схожу у них за своего, их идиллия ничем не нарушена. Но все же мысли о смерти и здесь невидимо витают в воздухе: каждый поглощен заботами о себе, а все вместе — мечтами о вкусной трапезе, такой трапезе, которая длилась бы хоть три тысячи лет, если это возможно. Мой сосед, полковник санитарной службы, в прошлом заведывавший больницей, не упускает случая попросить санитара:
— Слушай-ка, парень, сделай одолжение — дай мне соленого огурчика…
Он не может не знать, что один лишь кусочек этого соленого огурца прорвет его иссохший кишечник, и он тотчас же переселится в иной мир, — но голодные кошмары помутили его разум, и он сам не понимает, о чем просит.