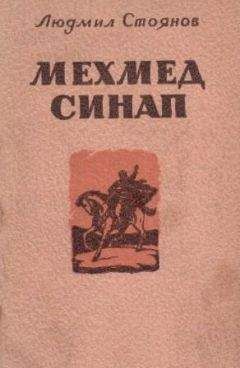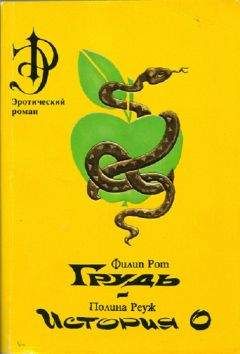Людмил Стоянов - Избранная проза
На шоссе затарахтели первые телеги; слышны голоса, неясный говор. Люди у костра сбрасывают с себя брезент, потягиваются, зевают. Изумительное зрелище являет собой картина жизни, Пробуждающейся радостно и как-то успокоительно.
Вот поднявшийся первым солдат на миг застывает в недоумении, затем потягивается до треска в суставах и начинает отбивать шаг на месте, не забывая командовать себе: ать-два, ать-два! Наконец взгляд его останавливается на мне: осторожно, с тревогой и любопытством он подходит и, легонько толкая меня в плечо, говорит:
— Эй, человек, ты жив?
Но, разглядев меня получше, он отпрянул, будто ужаленный. Я понимаю, как унизительно мое положение; какое отвращение вызываю в нем, я читаю в его взгляде: и чего только приплелась сюда эта падаль?
— Ого, да ты, не сглазить бы, жив еще! Смотри-ка. Молодец!
Он видит мою беспомощность, и это его трогает. Лицо у него длинное, худое, с широкими седыми бровями и густыми усами; его черные, как маслины, глаза смотрят на меня чуть насмешливо. Крупные желтые зубы проглядывают из-под усов.
— Если заехать тебе по челюсти — наверняка станет на место, а?
«Да, да, — стараюсь показать ему знаками, — бей, черт возьми! Терпеть дольше этот срам невозможно».
Потом он говорит:
— Слушай-ка, засунь палец в рот с этой стороны, вот так. А теперь второй — с другой стороны; растягивай сильнее, тяни в стороны. Вот видишь! Молодчина!
Ох! Я рождаюсь заново… Словно во мне вдруг ключом забили скрытые силы. Даже не верится, что я могу приподняться, сесть, выпрямить ноги, говорить… Челюсть вправилась, я смотрю на солдата с безграничной благодарностью и улыбаюсь, в то время как вокруг нас один за другим поднимаются на ноги полусонные люди и со всех сторон наплывает день.
Солдаты подходят взглянуть на меня. У каждого находится какое-нибудь ласковое, утешительное слово, Все были уверены, что ночью я непременно протяну ноги, но, слава богу, я, кажется, остался на этом берегу…
— Человек живуч, как кошка, Так просто не сдается.
— И правда, мне немного лучше, — говорю я.
Мне приносят воды сполоснуть лицо, поят чаем.
— Хоть бы какая санитарная повозка проехала, отправили б тебя в лазарет, — говорит мой спаситель, бай Петр.
Только сейчас я разглядываю его лицо, круглое и добродушное, похожее на рыжую тыкву, улыбающуюся какому-нибудь плетню в знойный июльский полдень.
— Ты спас меня, бай Петр, — говорю ему, — я тебе обязан жизнью.
— Ты скажешь… Велика заслуга — посадить в повозку человека. Мелешь, точно баба…
«Подожди-ка, — вдруг мелькает у меня в голове, — очень уж ты торопишься. Ходить не можешь, на носилках тебя нужно таскать, а ты вообразил…»
— Кто знает, конечно, что со мной еще будет, но, во всяком случае… — ты себя человеком показал, это уж бесспорно. — И я доверчиво смотрю на него, пока он не отходит, махнув рукой.
Солдат выстраивают, назначают в наряды.
Затем все расползаются, словно муравьи, и каждый принимается за свое дело.
На шоссе останавливается повозка, с которой снимают кого-то, должно быть, больного или раненого; позднее мне сказали, что это юнкер, молодой паренек по имени Захарий Стоянов. С первого взгляда догадываюсь, чем он болен, Он еле передвигает ноги, лицо у него без единого мускула, кожа да кости, — очевидно, холера и к нему прикоснулась своим поцелуем. Он присаживается около меня на снопы, но тут же растягивается во весь рост.
Кто-то крикнул солдату, доставившему больного:
— Верно ли болтают, что заключено перемирие?
— Как бы не так…
К вечеру движение на шоссе усиливается. В обе стороны спешат повозки. Мы с Захарием сидим у обочины дороги и ждем. Ждем, когда в Царево село поедут за хлебом и захватят нас.
Проезжающие со стороны фронта никаких новых вестей не приносят.
— Эй, люди, верно ли, что заключено перемирие? — спрашивают у них обозники.
— Брось даже мечтать об этом! — отвечает фронтовик.
Вот наконец мы и трогаемся. Повозка выезжает на шоссе, возница принимает от каптенармуса листок с перечнем поручений. Мы взбираемся на повозку, я сажусь на сиденье. Захарий ложится на дно повозки. Он повторяет тот путь, который мной уже пройден, — болезнь жестоко терзает его. Взгляд его погас, все существо выдает полное безразличие к жизни… Возница глядит то на меня, то на него, потом полушепотом, опасливо роняет:
— Пожалуй, не выжить ему… так мне сдается.
Повозка катится вниз по ухабистой дороге, лишь по недоразумению именуемой «шоссе». Это, в сущности, козья тропка, кое-где подремонтированная для военных нужд. Невозможно описать, как трясет повозку и как при каждом толчке выворачивает все нутро. Голова Захария то и дело стукается о борт повозки. Он так похож на покойника, что возница начинает многозначительно и недовольно коситься в его сторону.
Этот, в отличие от бай Петра, мизантроп и молчит, как пень. Низкорослый, тщедушный, с серыми мышиными глазками, он недоволен нашим соседством и, если бы только мог, охотно вывалил бы нас в придорожную канаву. Беспрестанно оборачиваясь, он поглядывает на мертвеющие черты Захария. Да и я, видимо, тоже не внушаю ему доверия, так как при каждом прикосновении ко мне, неизбежном при этой дикой тряске, он отшатывается от меня, как ужаленный.
— Как тебя звать, дядя? — пытаюсь я вызвать его на разговор.
Он делает вид, что не слышит. Повторяю вопрос.
— Кого, меня, что ли? Да Илией, Илия имя мое Илия Сапунджиев.
— Куда мы едем? Где ты нас высадишь?
— Посмотрим… Там, где вас примут…
И действительно, он вскоре исполняет свое намерение. Повозка неожиданно сворачивает вправо — и перед нами вырастает группа белых палаток. Не успели мы опомниться, как повозка уже остановилась, а бай Илия без лишних церемоний закричал:
— Эй, санитары! Принимайте больных…
Подбегают санитары с носилками в руках. Я слезаю самостоятельно, в то время как двое санитаров с трудом выгружают из повозки Захария. Я не в состоянии удержаться на ногах, Захарий — тем более. Укладываемся на носилки… Повозка скрывается, исчезают и санитары. Мы лежим и ждем, ждем мучительно долго! Незаметно, крадучись, подползает вечер, и вот уже на востоке всходит круглая медная луна.
Откуда-то доносится звон кружек, звяканье тарелок; впервые за все эти дни я ощущаю голод — сильный, невыразимый голод! Мысль о вкусной еде набрасывается на меня, как дикая орлица, у которой похитили птенцов, разорив гнездо. Что за безобразие, столько времени держат человека без пищи, морят его голодом, просто хоронят заживо…
Слышу голос Захария:
— Скажи, парень, помру я?
Голос у него хриплый, слова пробиваются с трудом.
— Не бойся, — отвечаю ему, — мне было не лучше твоего… Хоть, правда, я и сейчас не слишком хорош…
— А что с нами собираются делать, до каких пор будем тут лежать?
— Мы — гости нежеланные, всюду стараются отделаться от нас…
Тяжело вздохнув, он уткнулся лицом в землю — знакомая поза, когда хочется только одного, чтобы скорее все кончилось.
От палаток идут два человека, один из них с фонарем. Луч света, покачиваясь из стороны в сторону, рассекает ночную темень, словно раскаленным железом. Человек с фонарем останавливается в нескольких шагах от нас.
— В чем дело, ребята, что с вами?
— Заболели, — отвечаю.
— Разве вы не раненые?
— Рана — чепуха, нас другое мучает, господин доктор.
— Уж не холерные ли вы?
— Да, пожалуй что так.
Он сразу отступает на шаг.
— Но здесь не больница для холерных. Вы ошиблись. Вам нужно в Царево село.
— Ну раз уж так вышло…
— Весьма сожалею, но не могу принять вас.
— Нельзя ли хоть перекусить чего-нибудь?
— Ха, только этого недостает. Никакой пищи. Даже кусочек хлеба для вас — верная смерть. Вот по кружке чаю могу вам прислать.
Он обернулся к своему спутнику, должно быть, фельдшеру, распорядился напоить нас чаем и препроводить дальше, повернулся и ушел.
Снова лежим и ждем. Чай раздразнил мой аппетит, который принял какие-то сверхъестественные, фантастические формы. Это настоящие галлюцинации с пышными яствами, не снившимися даже Гелиогабалу[21].
В полусонном, полубессознательном состоянии нас наконец укладывают в повозку. Только когда начинает трясти на выбитой крутой дороге, я осознаю, что нас куда-то везут, но куда? Куда-то на дно ночи, все вниз и вниз, может быть, в самый ад… Чувствую рядом плечо Захария и слышу его хриплое дыхание. Не нравится мне этот хрип, это похоже на агонию… Голова его, свесившись на грудь, мотается из стороны в сторону, словно чужая. Его зажатые в коленях руки неподвижны.