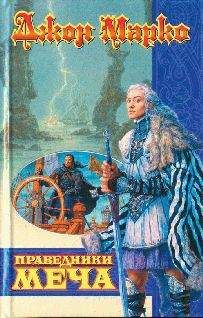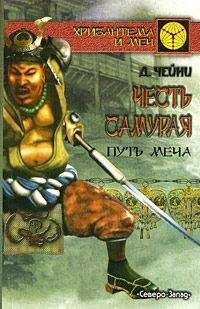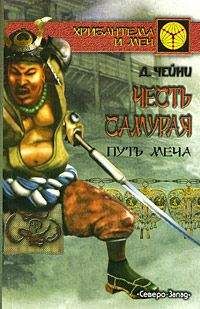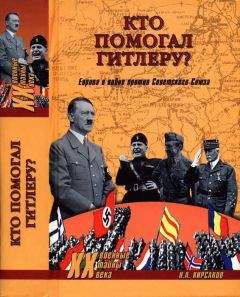Джослин Брук - Знак обнаженного меча
Поначалу Дункан не может их избежать, затем начинает искать их сам. По пути к своему новому дому он оказывается в компании солдата, откомандированного в Фолкстоун, родной город Брука. Солдат предлагает Дункану затянуться своей сигаретой, словно бы репетируя с ним тот обмен, что традиционно скрепляет на редкость семейственное товарищество низших по званию:
И развалившись, распустив ремни,
Дымя Вудбайном, штопаем носки.
Сигареты «Вудбайн» («Жимолость»), со своим цветочным названием, у Брука становятся обонятельным дополнением к зову горна, одной из его англизированных версий прустовского бисквита «мадлен»:
Резкий аромат сигареты показался ему концентрированным экстрактом того более слабого, рассеянного запаха, который исходил от самого солдата: чужого, загадочного запаха отчасти табака, отчасти теплых веяний пота и застарелой мочи; Дункан счел его ароматом самого героизма, исходящим от поля брани.
В «Орхидейной трилогии» ощущения описаны без соблюдения хронологии: они не только напоминают об утерянном прошлом, но и символизируют коренные конфликты в жизни взрослого человека. «Козел отпущения» сводит воедино эти распределенные во времени переживания, чтобы вызвать непосредственную конфронтацию между либидо и подавлением чувств. Фабула — конфликт между соблазнительной притягательностью объектов юношеских фантазий Дункана и авторитарностью дяди. Джеральд, стремящийся сделать из Дункана мужчину, сам уже не вполне образец мужественности: в сорок пять лет он физически сдает, может лишь сожалеть о том, что ушел в отставку, а грядущая война предстает для него спасительным решением в ситуации сельскохозяйственного спада и психологической апатии. Он заставляет племянника подчиняться дисциплине, которой подчинился бы сам, но тот уже фактически перешел на сторону противника в «необъявленной войне». Глядя, как солдаты «в обтягивающих фуфайках» бегут кросс, Дункан испытывает «чувство удовлетворения», осознавая, что они «уже не странная фауна чужой страны, а сожители, товарищи в том мире, к которому он сам теперь безвозвратно принадлежал: нелегкому для жизни, но уже не враждебному миру, территории солдат».
Это чувство причастности охватывает его в «нехорошем месте» — на окаймленной лесами пустоши под названием «Калифорния», чья пугающая загадочность почти до смехотворного усугублена присутствием дольмена (отзвук Стоунхеджа Гарди в «Тесс»), куч дохлых крыс, останков овцы с копошащимися в них червями и вонючей чемерицы. Дункан надеется, что округу захватят его союзники и избавят его от необходимости подчиняться деспотичному дяде. Он крадет у Джеральда и отдает деньги Джиму Тайлору — солдату, встреченному в поезде, — доводя ситуацию на ферме до кризиса. Однако посещения военного лагеря ведут к ужасающей материализации смутного содержания его «тайных фантазий» в вульгарном, телесном, бессознательном и крайне двусмысленном сексуальном заряде сообщества солдат-мужчин. Белая кожа Тайлора с выколотой на ней татуировкой — вариацией знака со змеей, олицетворяющего атавистическую инициацию в военный союз в «Знаке обнаженного меча» — символически предваряет обагренный кровью труп Дункана в конце романа.
Не столь явные предвидения являются результатом взаимостимулирующего действия воображения и топографии. Робкое вожделение, которое испытывает Дункан, делает его чувствительным к «анормальному» ландшафту, где эхом отдаются еле слышные звуки горна или пения: «солдат не было — в тот момент, когда я впервые это услышал». Эти странные симптомы становятся для Джеральда первым свидетельством того, что в окружающей местности что-то кроется; когда он ставит под сомнение звуки, услышанные Дунканом, создается такое впечатление, будто «их души стыдливо встретились нагишом, сознавая обоюдный и хранимый в тайне упадок». Прежде того Джеральд находит Дункана в «Калифорнии», «без сил от страданий и ужаса», и, доставив его домой, ложится в одну с ним постель (другая насквозь промокла от дождя), где тому снится кошмар, и «Джеральд тоже попал в этот сон». Дядя, сторонясь невольного давления мальчишеского тела и не в силах уснуть, спускается в столовую и сидит там всю ночь, поднимаясь на ноги с «накатывающим отвращением, ощущением упадка», после того как в радионовостях сообщают, что немцы вошли в Прагу. В финале романа он снова встает на рассвете — однако на сей раз «загадочный ландшафт уже выдал свою тайну» в воспоминании о «какой-то чужой стране», чья линия горизонта показалась ему невероятно знакомой. Эта представшая в воспоминаниях таинственность местности ускоряет сбор улик («голосов в лесу и света там, где света быть не могло») и погоню Джеральда за Дунканом, который сбежал от наказания в опустевший лагерь у дольмена. Однако последующая схватка — Дункан, кусающийся, как горностай, и Джеральд, забивающий его насмерть кнутовищем — задает всей истории тон мелодрамы и уничижает ее многозначительность ложнопатетическим объяснением:
Издали, от казарм в окрестностях Глэмбера, донесся еле слышный, щемящий напев горна, играющего побудку. Джеральд повернул прочь, увидев наконец всё с полной ясностью, зная, что долгий процесс инициации кончился: обряды соблюдены и цикл завершен.
Это детерминистическое пресечение вопиющих отношений (инцест, педофилия) не может не разочаровать читателей, которые, подобно Питеру Кэмерону, знают, в каком комическом и бытовом ключе представили гомосексуальность последующие поколения писателей: Кэмерон объясняет эту неудовлетворительную развязку тем, что автор навел тень на плетень из-за самоцензуры. Нельзя отрицать, что в изложении и описании осознанных и бессознательных состояний Дункана и Джеральда присутствуют неясные моменты. Эта проблема вызвана стремлением Брука соотнести непримиримые компоненты личности с персональным и историческим временем и выбрать точку для взгляда на эмоциональную и интеллектуальную жизнь подростка и взрослого. «Орхидейная трилогия» мигрирует между эпохами, по всей видимости разъединенными историческим процессом (сделавшим Брука писателем «не ко времени», реликтом двадцатых годов XX столетия). Извращенность эстетического удовольствия от армейской службы во время войны и после нее объясняется деликатными, весьма завуалированными признаниями о тяге к военным, сопровождавшей его юность. С другой стороны, фигура солдата, вторгающаяся в буколические сцены детства, обретает критически-иронический блеск в соседстве с описанием тупой казарменной жизни и лечения сифилитиков.
Однако в «Козле отпущения» взаимосвязь между наивным неосознанным вожделением и сознательным подавлением чувств подается в форме гораздо менее гибкой и скорее зловеще-трагической, а не ироничной. Номинальный символизм искупления греха (Дункан — ритуальная жертва, Джеральд — козел отпущения) предполагает, что в определенном смысле племянник выступает дяде отцом. «Еле слышный, щемящий напев горна», совпадающий с замыканием кольца инициации, обозначает, что Джеральда настиг кризис личности, схожий с тем, что охватил Дункана в его новом окружении. Подступающая война — которая, возможно, избавит Джеральда от тягостных неудач его гражданской жизни — манит его самоотречением армейской дисциплины, однако трудно сказать, чем на самом деле является тайна окружающей местности, которую он интуитивно постиг: ключом к опасным чарам, завладевшим Дунканом, или же просто средством их схоронить.
В стихотворении «Калифорния» Брук делает явной связь между «пороговым» местом и нарушениями в устоях личности:
Тот центр, что, не являясь центром, есть
Лишь цель подвижная, как грезы о соитье
Мальчишки…
В «изгнании» взрослости «притягательность и отвратительность безумного королевства» безразлично колеблется между трансцендентным и банальным:
И женщиною древо обернется
И орхидея — воином шотландским
А парень, что сидит на гауптвахте,
Найдет в ухмылке гнусного сержанта
Объект своей любви, и холм Венеры —
В отдраенной до блеска караулке.[20]
В «Военной орхидее» охота за орхидеями становится одним из основных обозначений того, что лежит по ту сторону. Ботанические изыскания превращаются в поиски ускользающего символа идеи солдата и чувства неполноценности, которое «солдатские принадлежности» столь саморазрушительно и все же сладостно воплощают. Orchis militaris, военная орхидея — «это имя… рог в лесных дебрях», — по всей видимости ставшая ко Второй мировой войне исчезнувшим в Британии видом, снова была обнаружена лишь в мае 1947 года. История о том, как добровольные организации натуралистов вроде «Чилтернской Группы Военной Орхидеи» охраняли эти цветы — с помощью закодированных телеграмм, круглосуточного наблюдения, охранников с дробовиками — читается, как история народного ополчения в изложении Ишервуда и Апворда. Это укрывательство продолжалось еще долгое время после того, как Брук перестал писать. В «Военной орхидее» вымирание растения оплакивается наряду с отмиранием «концепции военной службы как рыцарского и благородного призвания»: