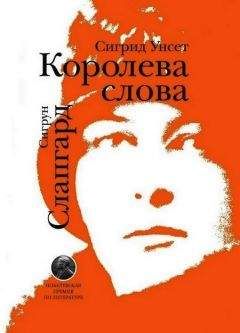Сигрид Унсет - Мадам Дортея
— Я вижу, матушка, вы поставили ей пиявки?
— А как же без них? Больную-то кровь надо выпускать, толку от твоего отвара и от водки было не больно-то много. Да и от припарок тоже, — быстро добавила она, видя, что Дортея взяла мешочек с пряными травами, лежавший на стуле возле кровати.
— Но и вреда от них тоже не бывает.
— Это еще как знать, госпожа, они могут и повредить. Ежели они погонят в кровь то, что должно выйти наружу, тогда болезнь дойдет до головы и до сердца, а это уже верная смерть, скажу я тебе. — Цыганке явно хотелось самостоятельно распоряжаться возле больной. — Уж коли вы послали за Сибиллой, так и позвольте мне поступать по своему разумению. Можете не сомневаться, мне ведомо многое такое, чего ваши доктора и повитухи не найдут в своих книгах, не зря я семь лет провела на Севере и училась там у финнов их мудрому искусству.
Дортея наблюдала за цыганкой. Надвинутый на глаза платок затенял широкое лицо с выдающимися скулами и глубокими глазницами, на дне которых пылали маленькие черные глазки. Она не была безобразна, хотя ее смуглое желтоватое лицо покрывали глубокие морщины. Когда Сибилла хвалилась своей приобретенной у финнов премудростью, на ее узких губах играла хитровато-самодовольная улыбка, а ее высокая, немного сутулая фигура была исполнена достоинства. Двигалась она легко и бесшумно, и Дортея заметила, что ее темные, не совсем чистые руки и длинные пальцы, унизанные серебряными и медными кольцами, красивы и нежны, как у девушки.
Сибилла поставила стульчак в ногах кровати и положила на место снятые ею части. Потом уселась на это троноподобное сиденье — слегка наклонившись вперед и положив руки на колени, она зорко следила за всеми движениями Дортеи.
Против своей воли Дортея испытывала если не жуть, то какую-то неприятную тревогу под пристальным взглядом этой чужой женщины. Все казалось неправдоподобным — полночь, и она одна в чужом доме с этой таинственной кочевницей у ложа смертельно больной женщины… Сальная свеча, которую она зажгла, была скверная: на ней уже появился нагар, она горела неровно, и растопленное сало бежало по подсвечнику.
Дортея огляделась в поисках щипцов для снятия нагара, на столе их не было, и она подошла к сундуку Марии посмотреть, нет ли их там. Ей стало еще неприятней, когда пришлось повернуться к цыганке спиной. Чтобы немного овладеть своими чувствами, она взяла стеклянный кувшин, который стоял на сундуке, поднесла его к свету и стала рассматривать плававших в нем черных пиявок, причудливо изгибавшихся от преломленного в воде света. Отставив кувшин, Дортея хотела взять в руки медный ларец, чтобы рассмотреть и его, но ее остановил резкий окрик цыганки:
— Поостерегись и не трожь мой ларец! В нем лежат опасные вещи. Быть беде, если темные силы попадут в чужие руки…
— Правда? — Дортея обернулась к цыганке, не снимая руки с медной крышки. Что это, воображение или она и в самом деле чувствует легкое покалывание в кончиках пальцев? — Неужто это так опасно? Я верю, матушка Сибилла, что вы мудрая и многоопытная женщина, и, похоже, Мария Лангсет уже прибегала к вашей помощи. Но что же у вас там такое, что может подействовать даже через закрытую крышку?
— Для тебя это опасно! — резко ответила цыганка. По ее темному лицу скользнула насмешливая улыбка. — Вот ежели бы ты верила мне, я могла бы принести добро тебе и твоим близким с помощью тех предметов, что я храню в ларце. Но ведь вы, богачи, не больно-то доверяете мудрости кочевников — можно сказать, что большинство из вас не верит ни во всемогущего Бога, ни в того, кого не хочу поминать в этой комнате. — Она повела черными глазами, словно покосилась на бледную больную, лежавшую в кровати у нее за спиной. — А тогда вредно узнавать то, чего не знаешь. Да и что вам, богатым и всесильным, может быть ведомо из того, что скрыто даже от мудрецов мира сего и открывается лишь избранным, как написано в Библии.
Дортея села в кресло с рваной кожаной обивкой, которое с прошлой ночи так и стояло у двери в ткацкую. Она пыталась убедить себя в том, что странный книжный язык, на котором изъяснялась цыганка, звучит просто смешно — и лишь время, место и необычное наставление, похожее на мессу, придает ее откровениям такую торжественность. Цыганка подавляла Дортею своими мистическими речами.
— Кто всегда ночует под крышей, за запертыми дверьми и затворенными ставнями, не видит многого из того, что видим мы; мы лежим в тишине ночи на открытом воздухе и слушаем все, что творится вокруг, мы многое знаем, поверь мне. Ты богата, и ты танцуешь в больших залах с золотыми зеркалами и мягкими креслами. Мой танец не похож на твой, когда я иду босиком, чтобы поймать белую змею…
Ее фигура на стульчаке, освещенная сбоку единственной горевшей свечой, была преисполнена некоего пророческого достоинства. Из-под шелковой шали в темную клетку, наброшенной на плечи, поблескивали серебряные петли на черном корсаже, на груди под серебряной шнуровкой пылала ярко-красная косынка. Талия цыганки была схвачена широким кожаным поясом, украшенным медными нашлепками и звездами, на боку висел пристежной карман с медным замочком. В остальном наряд Сибиллы не отличался от одежды простой крестьянки, он был темный, но выглядел добротно и аккуратно. Когда цыганка сдвинула платок, закрывавший ее лицо, Дортея увидела, что лоб у нее низкий и широкий — хотя его ширина не превосходила ширину скул, — пересеченный тремя глубокими поперечными морщинами. На голове у нее была черная шапочка, какие обычно носили старые крестьянки, на шапочку была повязана яркая шелковая тряпица. Из-под этого головного убора виднелись совершенно черные волосы.
Цыганка, верно, навострилась производить впечатление на суеверных людей и по праву носила имя Сибилла — оно так ей подходило, что Дортея даже подумала, уж не было ли оно продиктовано ремеслом, которым цыганка стала заниматься в зрелом возрасте.
— Да-да, матушка, в ваших словах есть смысл. Я с вами согласна. Но болезнь йомфру Лангсет вызвана вполне естественными причинами, и потому вы сможете исцелить ее естественными средствами, не прибегая к колдовству. Даже мне с моими скромными познаниями ясно, что больной было полезно поставить пиявки.
— Я заняла их у одной женщины в Осерюдхагане. — Сибилла презрительно улыбнулась. — Это верно, я знаю много средств, одинаково доступных и твоему и моему народу. И потому как недуг йомфру вызван не завистью и не сглазом, но, как у вас говорится, естественными причинами, то и пользоваться следует естественными средствами… И все-таки Сибилла, а не ты выгнала порченую кровь, заменила ее живой и спасла жизнь этой капитанской газели. Тьфу! — Цыганка сплюнула. — Красивое дело, настоящее барское дело, ничего не скажешь! Меня еще никто не просил убить своего младенца в утробе вязальной спицей… Тьфу, тьфу, вот жестокость!
Дортея невольно вздрогнула. Ей была отвратительна мысль об отчаянном поступке Марии Лангсет, но вся его омерзительность открылась ей только благодаря словам цыганки и тому отвращению, которое выразила эта женщина, принадлежащая к презираемому всеми народу. Дортея вдруг почувствовала дурноту — ей стал невыносим жаркий спертый воздух этой комнаты.
Она быстро поднялась — пора взглянуть на маленькую Маргрете, спящую в ткацкой. Но мысль о том, что старая цыганка будет смотреть ей в спину, была неприятна Дортее.
Грете сладко спала в своей корзине для шерсти. Она скинула с себя покрывало, и даже при слабом свете летней ночи Дортея видела, как грязны у нее ручки и ножки. К тому же девочка обмочилась, и из корзины шел едкий запах мочи; не просыпаясь, Грете отчаянно чесала себе голову. Бедный ребенок — никто, никто им сейчас не занимается! Первое, что надо сделать утром, это позаботиться о Маргрете и вымыть ее. Эта мысль немного заглушила нервную дрожь, вызванную присутствием цыганки, тревогу, от которой Дортея никак не могла избавиться.
Она поежилась, заметив, что Сибилла вышла за ней в ткацкую. Крадущиеся, кошачьи шаги стихли у нее за спиной. Дортея поняла, что цыганка тоже смотрит на спящего ребенка.
— Как думаете, что теперь будет с малышкой? — спросила Дортея, не успев подумать. Овладев собой, она продолжала уже легким тоном: — Люди говорят, будто вам открыта судьба человека и в прошлом и в будущем?
— Это так, люди не лгут. — В тихом голосе цыганки звучала какая-то особая властность, и по спине Дортеи, помимо ее воли, побежали зябкие мурашки. — Этот дар всемогущий Господь дает кротким, терпящим зло и несправедливость от детей мира сего. Кабы отец этой девочки, здешний хозяин, знал то, что знаю я, он не обошелся бы так сурово с моей дочерью и ее ребятишками, когда наказал их за то, в чем не было их вины. Ежели бы он мог видеть то, что вижу я, он не был бы так строг. По его глазам я прочла, что недуг, сжирающий печень и легкие моего старика, подстерегает и славного господина капитана — скоро этот недуг начнет поедать и его желудок, вот так-то! А его дочка… Я вижу, она стоит перед ленсманом, вынужденная отвечать за дела, которых вовсе и не совершала, равно как и нам случалось отвечать за совершенное другими зло. Ее ждет жизнь бродяжки, и я вижу, что дружок у нее тоже будет бродяга. Нет, не цыган, а какой-то поганец из селения, прибившийся к цыганам, он и станет ее мужем. Жители и ленсман будут гонять ее из прихода в приход — ай, ай, как плохо-то все обернется. Это горемычное дитя, этот добрый ангелочек так сладко спит и не знает, что еще до того, как на небесах блеснет новый год, она потеряет и отца и мать…