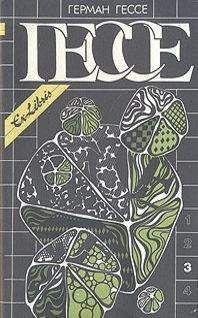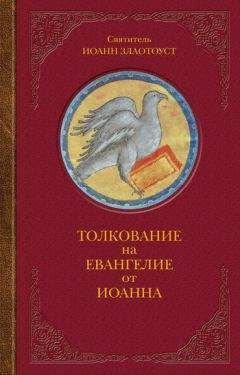Герман Гессе - Нарцисс и Златоуст
Он знал не на словах, не в сознании, а глубинным знанием крови, что его путь ведет к матери, к наслаждению и смерти. Отцовская сторона жизни, дух, воля не были для него приютом, там обретался Нарцисс, и только теперь Златоуст до конца осознал и понял слова друга и увидел в нем свою противоположность; это он воплотил и сделал зримым в фигуре своего Иоанна. Можно было до слез тосковать по Нарциссу, можно было предаваться чудесным мечтам о нем, но стать вровень с ним, стать как он было нельзя.
Каким-то сокровенным чувством Златоуст прозревал и тайну своего художнического призвания, своей страстной любви к искусству и своей временами дикой ненависти к нему. Неосознанно, чутьем, благодаря возникавшей в его душе веренице образов он догадывался, что искусство представляет собой сплав отцовского и материнского мира; оно может возникнуть в до крайности чувственной сфере и привести к предельно отвлеченным понятиям, или же оно может брать свое начало в мире чистого разума и заканчиваться в мире самой полнокровной плоти. У всех творений искусства, как, например, Богородица мастера, которые были воистину возвышенными и не относились к умелым подделкам, а были исполнены вечной тайны, у всех подлинных, несомненных творений искусства было это опасное, улыбчивое двуличие, это сочетание мужского и женского начала, это соединение плотских влечений и чистой духовности. Но лучше всего эта двойственность лица праматери Евы проявится, если когда-нибудь удастся создать ее образ.
В искусстве, в жизни художника Златоуст видел возможность примирения присущих ему глубочайших противоречий, а то и возможность создавать замечательные, небывалые олицетворения двойственности своей натуры. Но искусство не было чистым даром, оно не давалось просто так, за него нужно было платить высокую цену, оно требовало жертв. Более трех лет Златоуст приносил ему в жертву самый высокий и самый насущный после любовных наслаждений дар — свободу. Свобода, блуждание в пространстве без границ, приволье бродячей жизни, одиночество и независимость — все это он принес в жертву. И пусть другие считали его своенравным, строптивым и довольно эгоистичным, когда он время от времени забывал о мастерской и, впав в неистовство, пренебрегал работой, для него самого такая жизнь была рабством и нередко казалась ему невыносимо тягостной. Он обязан был повиноваться не мастеру, не будущему или необходимости удовлетворять естественные потребности, а самому искусству. Искусство же, это внешне столь одухотворенное божество, нуждалось в столь ничтожных вещах! Оно нуждалось в крыше над головой, оно нуждалось в инструментах, в дереве, в глине, в красках и золоте, оно требовало труда и терпения. Ему он пожертвовал дикой вольницей лесов, упоением безбрежными далями, терпким и сладостным предвкушением опасности, гордостью нищеты и вынужден был, с отвращением и скрежетом зубовным, приносить эту жертву снова и снова.
Какая-то часть того, чем он жертвовал, возвращалась к нему опять, за рабский порядок и оседлость своей нынешней жизни он понемногу мстил известными любовными похождениями и потасовками со своими соперниками. Вся загнанная внутрь необузданность, вся сдерживаемая сила его находила в этих похождениях бурный выход. Он прослыл забиякой, которого побаивались. Идя на свидание с девушкой или возвращаясь с танцев, подвергнуться вдруг в темном переулке нападению, получить несколько ударов палкой, мгновенно развернуться и перейти от защиты к нападению, тяжело дыша, прижать к себе запыхавшегося противника, стукнуть его кулаком в подбородок, оттаскать за волосы или как следует придушить его — все это доставляло ему удовольствие и на время излечивало от мрачного настроения. Да и женщинам это нравилось.
Все это с избытком заполняло его дни, все это имело смысл до тех пор, пока продолжалась работа над апостолом Иоанном. Она растянулась надолго, и завершающая доводка лица и рук проходила в торжественной, терпеливой сосредоточенности. В маленьком дровяном сарае за помещением, в котором работали подмастерья, заканчивал он свой труд. Наступило утро, когда работа была завершена. Златоуст принес метлу, тщательно подмел сарай, кисточкой смахнул остатки древесной пыли с головы своего Иоанна и долго, час, а то и дольше, стоял перед ним, переполненный торжественным чувством редкостного, большого переживания, которое в его жизни может повториться еще один только раз, а может и совсем не повториться. Мужчина в день свадьбы или в день посвящения в рыцарское звание, женщина после рождения первенца могут испытывать подобное чувство, высокий обет, глубокую серьезность и одновременно тайный страх перед мгновением, когда и это возвышенное, неповторимое чувство будет пережито, пройдет, заняв свое место в ряду других, и его поглотит привычный ход вещей.
Он видел перед собой своего друга Нарцисса, наставника своей юности, который стоял, подняв лицо и как бы прислушиваясь к чему-то, в одеяниях любимого ученика Иисуса, с выражением покоя, преданности и благоговения, напоминавшим едва зарождающуюся улыбку. Этому прекрасному, благочестивому и одухотворенному лицу, этой стройной, как бы парящей фигуре, этим изящным, смиренно воздетым к небу рукам с длинными пальцами были ведомы боль и смерть, хотя они и были полны юности и внутренней музыки; но им были неведомы отчаяние, суета и непокорство. Душа, скрытая за этими благородными чертами, могла быть радостной или печальной, но она была просветленной и не знала разлада.
Златоуст стоял и созерцал свое творение. Вначале это созерцание было исполнено благоговения перед памятью о своей ранней юности и дружбе, но закончилось оно наплывом забот и тяжелых дум. Вот стоит его творение, и прекрасный ученик Иисуса останется таким навсегда, его нежное цветение никогда не кончится. А он сам, создавший это, должен теперь расстаться со своим творением, уже завтра оно будет принадлежать не ему, не будет ждать прикосновения его рук, не будет расти и расцветать под этими прикосновениями. Не будет больше ему прибежищем, утешением и смыслом жизни. Он остался с пустыми руками. И лучше всего было бы, так ему казалось, проститься сегодня не только с этим Иоанном, но и с мастером, с городом и с искусством. Здесь ему нечего было больше делать; в душе его уже не теснились образы, которые он мог бы воплотить. Тот желанный образ образов, фигура Матери человеческой, был и еще долго будет для него недосягаем. Что же, опять ему полировать фигурки ангелов и вырезать орнамент?
Он встряхнулся и пошел в мастерскую Никлауса. Тихонько войдя, он остался стоять у двери, пока мастер не заметил его и не окликнул.
— Ну, что там у тебя, Златоуст?
— Моя скульптура готова. Быть может, вы зайдете взглянуть на нее, прежде чем идти обедать?
— Зайду с удовольствием, прямо сейчас.
Они вместе прошли в сарай, оставив дверь открытой, чтобы было светлее. Никлаус уже давно не видел скульптуру, он не хотел мешать Златоусту работать. Теперь он, не говоря ни слова, внимательно рассматривал ее, его замкнутое лицо посветлело и стало красивым, Златоуст заметил, как радостно блеснули его строгие синие глаза.
— Хорошо, — сказал мастер. — Хорошо. Это твоя пробная работа на звание подмастерья, Златоуст, вот и пришел конец твоему учению. Я покажу ее людям нашего цеха и потребую, чтобы тебе выдали за нее свидетельство о получении звания мастера, ты его заслужил.
О цехе Златоуст был невысокого мнения, но он знал, сколько признания было в словах мастера, и радовался этому.
Медленно обойдя еще раз вокруг фигуры Иоанна, Никлаус со вздохом произнес:
— Эта скульптура исполнена смирения и чистоты, она серьезна, но полна счастья и покоя. Можно подумать, ее создал человек, в душе которого много света и радости.
Златоуст улыбнулся.
— Вы же знаете, я изобразил в этой фигуре не себя самого, а своего любимого друга. Он, а не я придал образу ясность и покой. Собственно, это ведь не я создал этот образ, а он вдохнул его в мою душу.
— Может, и так, — сказал Никлаус. — Рождение такого образа — всегда тайна. Я знаю себе цену, но должен сказать: многое из сделанного мной уступает твоему Иоанну, не по мастерству и тщательности отделки, а по правдивости. Ну, да ты и сам знаешь, такое творение неповторимо. Это тайна.
— Да, — сказал Златоуст, — когда скульптура была закончена, я взглянул на нее и подумал: ничего подобного тебе уже не сделать. Поэтому, мастер, мне кажется, что в скорости я снова отправлюсь странствовать.
Удивленно и негодующе Никлаус посмотрел на него, глаза его снова стали серьезными.
— Мы еще поговорим об этом. Для тебя работа только начинается, сейчас и впрямь не время думать об уходе. Но на сегодня ты свободен, а обедать приходи ко мне.
К обеду Златоуст явился причесанный и умытый, облаченный в воскресное платье. На этот раз он знал, как много значило и какой редкой милостью было приглашение к столу мастера. Когда он поднимался по лестнице, ведущей в уставленную скульптурами прихожую, сердце его отнюдь не было переполнено благоговением и робкой радостью, как в тот раз, когда он с бьющимся сердцем входил в эти прекрасные покои.