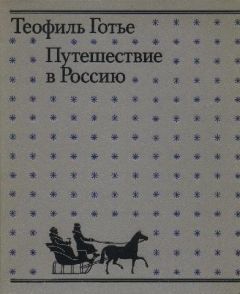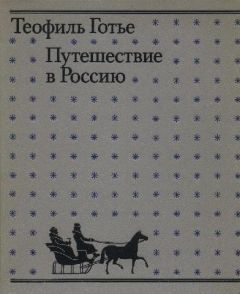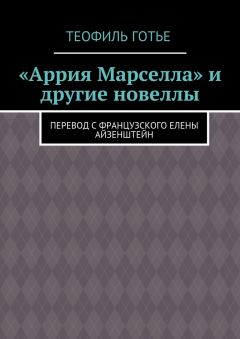Теофиль Готье - Мадемуазель де Мопен
На картинах мы видим столько прекрасных лиц! Почему ни одно из них не мое? Сколько очаровательных голов исчезает под слоем вековой пыли и копоти в недрах старинных галерей! Не лучше ли было бы им покинуть свои рамы и переместиться мне на плечи? Неужто слава Рафаэля заметно пострадает, если один из тех ангелов, что тучами роятся на ультрамарине его холстов, уступит мне на три десятка лет свое обличье? На его фресках в стольких местах, иной раз самых прекрасных, осыпались или выцвели краски! Никто бы и внимания не обратил. Что делают там, по стенам, все эти молчаливые прелестные существа, по ликам которых едва скользнет рассеянным взглядом заурядный посетитель? И почему Господу или случаю недостало вдохновения сотворить то, чего достигает человек с помощью нескольких волосков, прикрепленных к рукоятке, и разноцветной пасты, размазанной по доске?
Первое ощущение, охватывающее меня перед одним из этих изумительных лиц, чей нарисованный взгляд словно проходит сквозь вас и продолжается в беспечности, — это трепет восхищения, к которому примешивается некоторый ужас: мои глаза увлажняются, сердце бьется; потом, когда я немного осваиваюсь с этим лицом и успеваю дальше проникнуть в секрет его красоты, я безмолвно провожу сравнение между ним и собою, ревность на дне моей души извивается замысловатыми кольцами, подобно гадюке, и я с невероятным трудом удерживаюсь от того, чтобы не накинуться на полотно и не разорвать его в клочья.
Быть красивым — значит владеть такими чарами, чтобы все вокруг улыбались и радовались вам, чтобы, прежде чем вы заговорите, все уже были расположены в вашу пользу и готовы присоединиться к вашему мнению; чтобы вам довольно было пройти по улице или появиться на балконе — и вот уже в толпе есть ваши друзья и влюбленные в вас женщины. Знать, что вам нет нужды быть любезным, вас будут любить и без того; знать, что нет нужды расточать сокровища ума и доброты, к которым обязывает безобразная внешность, и блистать нравственными добродетелями, которыми обычно возмещают недостаток благообразия, — какой могучий и великолепный дар!
А если в ком-нибудь непревзойденная красота соединилась с непревзойденной силой и под обличьем Антиноя таятся мышцы Геракла — чего еще может желать такой человек? Я уверен: если к моей душе присоединить эти два дара, не пройдет и трех лет, как я стану властелином мира! И еще об одном я мечтал почти так же, как о красоте и о силе, — об умении со скоростью мысли переноситься с места на место. Дайте мне красоту ангела, силу тигра и крылья орла, и я, пожалуй, соглашусь, что мир устроен не так скверно, как я считал раньше. Прекрасная личина — чтобы обольстить и ослепить жертву, крылья — чтобы обрушиться с неба и похитить ее, ногти — чтобы ее разорвать; пока я лишен всего этого, не видать мне счастья.
Все страсти и все склонности, которые мною завладевали, были всего лишь фальшивыми личинами этих трех желаний. Я любил оружие, лошадей и женщин: оружие — чтобы умножить силу мышц, которой у меня не было; лошадей — чтобы они заменили мне крылья; женщин — чтобы владеть хотя бы красотой другого человека, коль скоро ее недостает мне самому. Из оружия я предпочитал и выискивал самое замысловатое и опасное, да еще то, раны от которого бывают неизлечимы. У меня никогда не было случая пустить в ход какой-нибудь из моих ятаганов или малайских кинжалов, и все же я люблю, чтобы они были под рукой; я извлекаю их из ножен с невыразимым ощущением безопасности и силы; я упражняюсь с ними так и этак, размахиваю ими с самым решительным видом, и, если случайно натыкаюсь взглядом на собственное отражение в зеркале, удивляюсь, какое у меня свирепое выражение лица. А лошадей я умудряюсь заездить до того, что им остается только издохнуть или запросить пощады. Если бы я не отказался от прогулок на Феррагюсе, он бы уже давно испустил дух, и это было бы жаль: он славное животное. Но где сыскать арабского скакуна, который был бы столь же быстр и тонконог, как моя мечта? В женщинах я искал только красоты, и, поскольку те из них, кого я видел до сих пор, весьма далеки от моих представлений о ней, я предпочел им картины и статуи, — весьма убогая замена для такого пылкого и чувственного человека, как я. А все же есть своего рода величие и красота в том, чтобы любить статую: такая любовь идеально бескорыстна, и можно не опасаться ни пресыщенности, ни отвращения, приходящего вслед за победой; к тому же рассудительность не велит надеяться на повторение чуда, приключившегося с Пигмалионом.
Не странно ли? Я нахожусь еще в самом первом цвете юности, я отнюдь не все еще испытал, я не испробовал даже самых простых вещей, а дошел уже до такой степени разочарования, что только необычайное и труднодоступное меня влечет?
За наслаждением следует пресыщенность — это закон природы, это само собой разумеется. Если человек угостился всеми блюдами на пиру, да еще помногу, и, больше не чувствуя голода, пытается растормошить онемевшее нёбо жгучими пряностями и возбуждающими винами, это нетрудно понять; но если человека, который лишь присел к столу и отведал от самых первых яств, сразу охватывает непреодолимое отвращение, и он может проглотить только самые лакомые куски, а иначе его стошнит; и если человек этот любит только мясо с душком, сыры, покрытые точечками плесени, трюфели и вина, пахнущие ружейным кремнем, — такое можно объяснить только особенностями его организма; это все равно, как если бы полугодовалый ребенок счел молоко кормилицы слишком пресным и пожелал сосать только водку. Я так устал, словно предавался всем чудовищным излишествам Сарданапала, а ведь жизнь моя, на сторонний взгляд, текла безгрешно и спокойно: ошибкой было бы полагать, будто обладание — единственный путь, ведущий к пресыщенности. Ее можно достичь и путем вожделения, а воздержание изнуряет сильнее, чем излишества. Такое вожделение, как мое, утомляет по-другому, чем обладание. Его взгляд устремляется на предмет, которого оно домогается, пронизывает его, и этот предмет сияет ему в вышине ослепительней и ярче, чем если бы его можно было потрогать руками: и что нового узнало бы оно, попади желанный предмет ему в руки? Какой опыт равноценен этому упорному и страстному созерцанию?
Я скользнул по поверхности стольких вещей, вникнув в очень немногие из них, что теперь меня влекут только самые крутые вершины. На меня напала хворь, которая подстерегает в старости могучих людей и могучие народы: имя ей — невозможность. Все, что в моих силах, не имеет для меня ни малейшей притягательности. О, Тиберий, Калигула, Нерон, великие римляне времен империи, о, вы, что были так ложно поняты, вы, которых доныне преследует лаем свора напыщенных говорунов, я скорблю о ваших страданиях и жалею вас, насколько у меня еще сохранилась способность к жалости! Я тоже хотел бы построить мост через море и замостить волны; я мечтал предавать огню города, чтобы освещать свои празднества, я желал быть женщиной, чтобы познать новые ухищрения сладострастия. Твой раззолоченный дом, Нерон, не более чем грязный хлев рядом с дворцом, который я себе возвел; мой гардероб богаче твоего, Гелиогабал, и несравнимо великолепнее. В моих цирках рычания и крови больше, чем в ваших, мои духи более приятные и пахучие, мои рабы многочисленнее и крепче; я даже впрягал в свою колесницу нагих куртизанок, я шагал по людям, попирая их так же презрительно, как вы. Гиганты древнего мира, в моей хилой груди бьется такое же могучее сердце, как ваши, и, будь я на вашем месте, я свершил бы то же, что вы, а может быть, и больше. Сколько Вавилонских башен нагромоздил я одну на другую, чтобы достичь неба, надавать пощечин звездам и плюнуть сверху на мироздание! И почему только я не Бог — раз уж мне не дано быть мужчиной?
О, мне, пожалуй, понадобится сто тысяч веков небытия, чтобы отдохнуть от усталости, скопившейся за двадцать лет жизни. Силы небесные, какую скалу обрушите вы на меня? В какую тьму окунете? Из какой Леты напоите? Под какой горой погребете Титана? Не уготована ли мне участь задувать своим дыханием вулкан и, ворочаясь с боку на бок, производить землетрясения?
Когда я думаю о том, что родился от нежной, смиренной матери, чьи склонности и привычки были на редкость скромны, мне делается странно, как это я не разорвал ей чрева, покуда она меня носила. Как случилось, что ни одна из ее спокойных и безгрешных мыслей не перетекла в мою плоть вместе с кровью, которую она в меня влила? И как случилось, что я сын ей только по плоти, но не по духу? Голубка породила тигра, который жаждет терзать когтями все мироздание.
Я рос в самом спокойном и невинном окружении. Трудно вообразить себе более целомудренную обстановку, чем была у меня. Я прожил годы в тени материнского кресла, с младшими сестрами и домашним псом. Вокруг я видел только добродушие, кроткие и безмятежные лица старых слуг, поседевших у нас на службе и, так сказать, по наследству переходивших от поколения к поколению нашей семьи, да родных и друзей, важных и напыщенных, одетых в черное, входивших один за другим и складывавших свои перчатки на полях шляп, да нескольких пожилых тетушек, пухлых, чистеньких, чинных, в ослепительно-белых кофточках, в серых юбках, в сетчатых митенках, со сложенными на животе руками, словно у монашек; видел строгую, чуть ли не унылую обстановку, панели из гладкого дуба, кожаные обои, исключительно строгие и приглушенные тона в убранстве комнат, напоминающие о полотнах некоторых фламандских мастеров. Сад был сырой и сумрачный; букс, деливший его на части, затянувший стену плющ да несколько елей с облезлыми ветвями исполняли в нем обязанности зелени — обязанности, с которыми они справлялись не слишком успешно; кирпичный дом, с высокой крышей, но, впрочем, просторный и весьма прочный, казался мрачным и словно вросшим в землю. Это жилище как нельзя более соответствовало уединенной, суровой и невеселой жизни. Казалось, каждый ребенок, взращенный в таком доме, неизбежно станет священником или уйдет в монастырь; и надо же случиться, что в этой атмосфере чистоты и покоя, в этих сумрачных, задумчивых стенах в меня мало-помалу стала закрадываться невидимая глазу порча, словно в обложенный соломой плод мушмулы. В лоне честной, набожной, благочестивой семьи я дошел до самой чудовищной развращенности. Виной тому не было ни влияние света — я с ним не соприкасался, ни пламя страстей — я коченел от холода в этих толстых стенах, источавших ледяную сырость. Червь не заполз в мое сердце из сердцевины другого плода. Он завелся сам собой прямо в моей мякоти, съев и избороздив ее вдоль и поперек, но снаружи ничего не было заметно, и я даже не догадывался, что во мне сидит порча. Снаружи не видать было ни пятнышка, ни червоточинки, но внутри я был пуст; от меня осталась одна яркая оболочка, готовая лопнуть от малейшего щелчка. Это необъяснимо, не правда ли, как дитя, рожденное от добродетельных родителей, взращенное вдали от всякого зла, само собой развратилось до такой степени и дошло до такого падения? Я убежден, что, если проследить до седьмого колена, среди моих предков ни у кого не сыщется ни одной из тех частиц, из которых я состою. Я чужой в своей семье; я не ветвь этого благородного ствола, но ядовитый гриб, выросший в удушливую ненастную ночь между его замшелых корней; а между тем мне как никому другому на свете знакомы вдохновение и порывы к прекрасному: никто так упрямо, как я, не пытался взлететь над землей — но с каждой попыткой я падал все ниже, и погубило меня то, что должно было спасти.