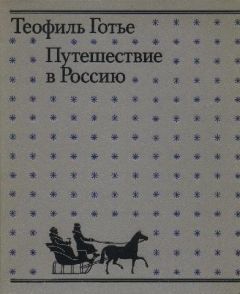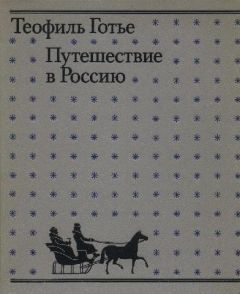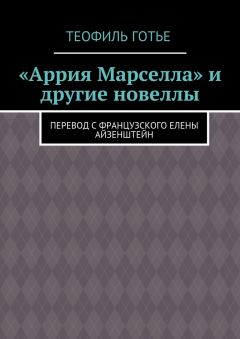Теофиль Готье - Мадемуазель де Мопен
Я всеми крыльями увяз в этом коварном клею, понадеявшись, что оставлю в нем только одно перышко и смогу взлететь, когда мне заблагорассудится; оказалось, что это немыслимо трудно; я вижу, что угодил в невидимую сеть, и разорвать ее тяжелее, чем ту, что выковал Вулкан: вязь ее звеньев так тонка и так плотна, что в ней не найти ни щелочки, сквозь которую я мог бы ускользнуть. Впрочем, эта сеть широка, под ней можно двигаться с ощущением мнимой свободы; я натыкаюсь на нее лишь пытаясь ее разорвать, но она не поддастся мне и делается прочнее бронзовой стены.
О, мой идеал, сколько времени я потратил понапрасну, даже не пытаясь тебя воплотить! Как истомился, трусливо поддаваясь сластолюбию, которого хватало на одну ночь! И как мало заслуживаю встречи с тобой!
Иногда я мечтаю о новой любовной связи, но у меня никого нет на примете; чаще я твержу себе, что никогда больше не вступлю в подобную связь, если мне удастся освободиться от этой; пожалуй, такого решения ничто не оправдывает, ибо вся история с Розеттой складывалась самым счастливым образом, и у меня нет ни малейшего основания жаловаться на мою возлюбленную. Она всегда была добра ко мне и обращалась со мной как нельзя лучше; она блюла безупречную верность и не пробуждала во мне ни тени подозрения: самая бдительная и беспокойная ревность ни в чем не сумела бы ее упрекнуть и неизбежно уснула бы спокойным сном. Ревнивец мог бы терзаться только из-за прошлого; правда, здесь он нашел бы массу поводов для расстройства. Но ревность такого рода, по счастью, довольно редко бывает столь изощренной; обычно она довольствуется настоящим, а не роется в минувшем, под развалинами старых страстей, в поисках пузырьков с ядом и соусов с желчью. Если думать обо всем этом, кого из женщин можно будет любить? Чаще всего мы смутно сознаем, что у нашей дамы было до нас несколько любовников, но мужская гордость так причудлива, прихотлива и увертлива, что мы уверяем себя, будто до нас эта женщина никого по-настоящему не любила и оказывалась в объятиях людей, которые были ее недостойны, лишь по роковому стечению обстоятельств или по неясному влечению собственного сердца, которое искало себе пищи и тянулось то к одному, то к другому, не находя единственного, кто был ему нужен.
Быть может, по-настоящему можно полюбить лишь невинную девушку, невинную душой и телом, хрупкий бутон, который не приласкал еще ни один зефир и на чьи сомкнутые лепестки не опустилась еще ни единая капля дождя или росы, — непорочный цветок, который развернет свой белоснежный убор для вас одного, прекрасную лилию с серебряной чашей, в которой еще не омочило губ ни одно желание, которую позлатит только ваше солнце, поколеблет только ваше дыхание, оросит только ваша рука. Полуденное сияние немногого стоит в сравнении с божественной бледностью рассвета, и весь жар искушенной и знающей жизнь души уступает небесному неведению юного сердца, пробуждающегося для любви. Ах, как горько и постыдно думать о том, что смываешь следы чужих поцелуев, что на этом лбу, губах, шее, плечах, на всем этом теле, которое ныне принадлежит тебе, не осталось, быть может, места, где бы не горели следы чужих губ; что этот божественный лепет, который приходит на подмогу языку, не находящему более слов, уже кто-то слышал; что эта изнемогающая плоть не с тобой первым познала этот восторг, этот бред, и где-то там, далеко, в глубине, в тайных закоулках души, куда никто не доберется, затаилось неумолимое воспоминание, которое сравнивает нынешнее наслаждение с минувшим!
Хотя по врожденной беспечности я предпочитаю торные дороги нехоженым тропам, а фонтанчик с питьевой водой на площади — горному роднику, мне непременно надо будет сделать попытку полюбить какое-нибудь девственное, создание, чистое, как снег, трепетное, как мимоза, только и умеющее, что краснеть да опускать глаза; быть может, в этой прозрачной струе, куда не нырял еще ни один пловец, я и выловлю жемчужину самой чистой воды, достойную красоваться рядом с жемчужиной Клеопатры; но для этого необходимо оборвать связь, удерживающую меня возле Розетты, ибо с ней мне уже точно не осуществить моей мечты, но, по правде сказать, у меня недостает для этого сил.
И потом, если уж признаваться во всем до конца, в глубине моей души затаилось одно глухое и постыдное соображение, не смеющее объявиться на свет, а между тем, я должен им с тобой поделиться, поскольку, во-первых, обещал ничего не утаивать, а во-вторых, только полная исповедь достойна похвалы; соображение это немало способствует моей нерешительности. Допустим, я порву с Розеттой, но прежде чем я найду ей замену, пройдет время, какими бы доступными ни были те женщины, среди которых я стану выбирать ей преемницу; но между тем с нею я так приучился к наслаждению, что прервать его будет для меня сущей мукой. Правда, в запасе остаются куртизанки: когда-то я их весьма жаловал и не упускал случая за ними приволокнуться — но нынче они внушают мне чудовищное отвращение, меня от них тошнит. Итак, об этом и думать нечего, сладострастие так меня расслабило, отрава так глубоко пронизала меня, дойдя до мозга костей, что мысль о том, чтобы месяц-другой обходиться без женщин, для меня невыносима. Это эгоизм, самый грязный эгоизм, но думается мне, что от самых добродетельных людей, пустись они на откровенность, можно услышать весьма похожие признания.
Вот тот клей, который держит меня сильнее всего; иначе бы мы с Розеттой давным-давно бесповоротно рассорились. И потом, по правде сказать, ухаживать за женщиной — это такая тоска смертная, на какую у меня просто духу недостает. Снова твердить очаровательные глупости, которые я уже повторял столько раз; строить из себя любезника, писать записки и отвечать на них; вечером провожать красавицу за целых два лье от собственного дома; студить себе ноги и подхватывать насморк под окном, подкарауливая обожаемую тень; подсчитывать на кушетке, сколько слоев ткани отделяет вас от вашей богини; носить букеты и таскаться по балам — и все это, чтобы достичь того, чего я достиг теперь: сущая мука! Уж лучше не покидать наезженной колеи. Выбраться из нее, чтобы, вволю посуетившись и изрядно хлебнув лиха, угодить в другую, точно такую же, — к чему? Будь я влюблен, дело пошло бы само собой, и все эти хлопоты показались бы мне восхитительными; но я-то ничуть не влюблен, хотя мне очень хочется влюбиться, ведь любовь, в сущности, — единственное, что есть на свете; и если наслаждение, бледная тень любви, так манит нас — какова же должна быть она сама? В какой струе неизреченных восторгов, в каких озерах чистых блаженств должны утопать те, кого поразила в сердце одна из стрел с золотым острием и кто пылает вожделенным огнем взаимной страсти!
Рядом с Розеттой я чувствую сонный покой и ленивую негу, дары плотской пресыщенности, и ничего более, но мне этого мало. Часто эта сладострастная одурь переходит в оцепенение, а спокойствие — в скуку; тогда я впадаю в беспричинную рассеянность, и мною овладевают какие-то бесцветные грезы, которые утомляют и изнуряют меня; из этого состояния следует вырваться во что бы то ни стало.
Ах, если бы я был таким, как некоторые мои друзья, те, что с упоением целуют изношенную перчатку, испытывают блаженство от пожатия руки, не променяют на ларец султанши несколько жалких цветочков, полуувядших от бального пота, орошают слезами и зашивают себе в сорочку, поближе к сердцу, записку, составленную убогим слогом и такую глупую, словно ее скопировали из «Образцового секретаря», обожают женщин с огромными ногами, оправдываясь тем, что зато, мол, у этих женщин прекрасное сердце! Если бы я мог с дрожью провожать взглядом нижние оборки чьего-нибудь платья, ждать, когда отворится дверь и, залитое потоками света, в проеме явится обожаемое белоснежное видение; если бы от одного словца, сказанного шепотом, я краснел и бледнел; если бы мне хватало благородства отказаться от обеда, чтобы раньше поспеть на свидание; если бы я был способен заколоть кинжалом соперника или драться на дуэли с мужем; если бы небо в виде особой милости даровало мне умение признавать некрасивых женщин умницами, а некрасивых и глупых — добрячками; если бы я ощущал в себе решимость танцевать менуэт и слушать сонаты, которые разыгрывают на клавесинах и арфах юные создания; если бы мои таланты простирались настолько далеко, что я смог бы обучиться ломберу и реверси; наконец, если бы я был не поэтом, а мужчиной, — я наверняка был бы куда счастливее, чем теперь; я сам скучал бы меньше и меньше докучал другим людям.
Я никогда ничего не требовал от женщин, кроме одного — красоты; без ума и души я с удовольствием обхожусь. По мне, красивая женщина всегда умна; ей хватает ума быть красивой, и не знаю, что она могла бы выдумать лучше. Самые ослепительные россыпи слов и самые блистательные остроты навряд ли сумеют затмить сияние прекрасных глаз. Свежие губы я предпочту свежей мысли, а хорошо вылепленное плечо — любой добродетели, даже христианской; я променяю пятьдесят душ на одну маленькую ножку и все стихи со всеми поэтами в придачу на руку Хуаны Арагонской или лоб девы из Фолиньо. Превыше всего я ставлю красоту формы; красота для меня — это зримое божество, осязаемое счастье, это небо, спустившееся на землю. Особая волнистость линий, особый изгиб рта, особый рисунок века, особый поворот головы; особая удлиненность овала лица подчас восхищают меня безмерно и приковывают к себе на целые часы.