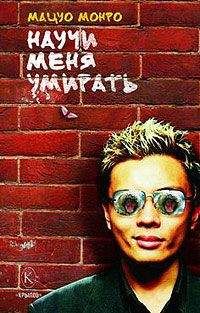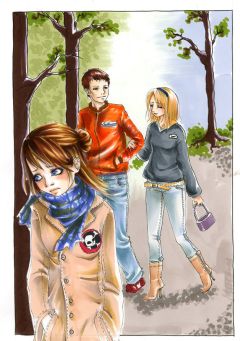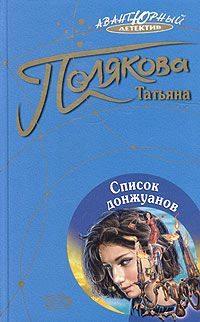Герман Банг - Тине
Она услышала, как забеспокоилась в хлеву скотина, как громко прокричал петух, и тогда она торопливо зашагала к пруду.
За одно мгновение ей вспомнилась тысяча всяких вепрей и событий; казалось, будто все любимые ею голоса разом заговорили с ней. Она вспомнила Херлуфа, и тот вечер, когда он уезжал, и тот день, когда они с Бергом перелезали здесь через изгородь, и утренний псалом, который распевали в школе, когда она была еще совсем, совсем маленькой; вспомнила Аппеля, который уже умер, отца и мать, которые теперь останутся совсем одни на свете.
Ужас охватил Тине, и она содрогнулась… здесь ей предстоит умереть… умереть.
Нет, не может она умереть, она должна жить — не может, тысячи отговорок, тысячи уверток, тысячи предлогов мгновенно отвратили ее от смерти, гнали домой, в жизнь…
И все же она медленно сняла с ног башмаки. Страх умер, задавленный привычной болью сердца.
Она сложила руки, стиснула губы и, не отводя глаз от беседки, скользнула в темную глубь.
…Поверхность пруда разгладилась.
Наступил день.
Мадам Бэллинг проснулась. Бэллинг так хорошо провел нынешнюю ночь, да и сейчас еще он спокойно спал.
Из комнаты Тине тоже не доносилось пи звука. Мадам Бэллинг сама понежилась в постели с четверть часика и лишь затем постучала палкой в потолок, чтобы разбудить Тине.
Ответа не последовало.
Мадам Бэллинг встала. Может, Тине еще не выспалась. Не грех ей разок поспать дольше обычного. Мать решила сварить кофе и принести его наверх, пусть дочка выпьет кофейку прямо в постели, когда проснется.
Сколько раз она носила кофе наверх зимними утрами, когда стоял такой холод, что Тине не хотелось вылезать из-под одеяла.
Мадам Бэллинг хлопотала над кофейником и разговаривала сама с собой. Но тут проснулся Бэллинг, а его полагалось напоить в первую очередь.
— Господи, господи… плохо дело-то. — Мадам Бэллинг обращалась к себе самой. — Плохо дело-то… скоро его придется кормить, с ложечки… как малое дитя… Пей, Бэллинг, пей.
Он уже не мог сам удержать чашку, он уже ничего не мог удержать.
Наконец Бэллинг успокоился, и мадам Бэллинг взяла поднос и отправилась наверх.
Увидев пустую, несмятую постель, она мгновение стояла в полной растерянности, ничего не понимая, потом ноги у нее задрожали, она пробежала по чердаку к слуховому оконцу и выглянула наружу.
— Тине! Тине! — неизвестно зачем крикнула она и тут же смолкла: как бы Бэллинг не услышал.
Она пыталась собраться с мыслями, она подумала: «Конечно же, Тине у раненых, за ней прислали, она у них».
Мадам Бэллинг спустилась вниз, ноги плохо держали ее. Она отворила дверь: у раненых Тине не было. Она спросила:
— Вы не видели моей дочери? — но ответа ждать не стала. Про себя она твердила одно: «Как нехорошо с ее стороны так меня пугать». И вдруг, снова охваченная страхом, спрашивала:- Но где же она тогда? Где же?
Мысли отказывались ей служить, она забегала по дому, словно ища потерянную иглу. Потом вдруг выскочила на крыльцо и помчалась через площадь к трактиру.
— Где Тинка? — кричала она на бегу, словно Тинка должна была все знать.
Но когда Тинка вышла к ней, мадам Бэллинг уже не могла говорить, она только беззвучно шевелила губами и голова у нее тряслась.
— В чем дело? В чем дело? — кричала Тинка.
— Тине! Где Тине? Ее нет… — И тут мадам Бэллинг расплакалась.
— Где ее нет? — кричала в ответ Тинка, побелев как полотно. — Где ее нет?
— Да, где, где? — бестолково твердила мадам Бэллинг внезапно севшим голосом, по нескольку раз повторяя одни и те же слова и не умея связать их воедино.
— Ее не было… она пошла наверх… вчера, а ее там нет… Она хотела спать наверху… вчера… а ее там нет… Сейчас ее там нет.
— Значит, она пошла в лесничество, сказала Тинка и накинула на плечи платок; ее бил озноб. Мадам Бэллинг на мгновение застыла, потом она даже улыбнулась, несмотря на нервную дрожь.
— Да, да, да, — лепетала она, — Тине там, Тине там… Как это я сразу не подумала… Она пошла узнать, нет ли вестей о лесничем, о лесничем.
И она побежала вслед за Тинкой, бормоча на бегу одно и то же слово:
— Лесничий, лесничий, лесничий…
Внезапно она остановилась и, словно защищаясь от удара, закрыла обеими руками свою седую голову: страшное подозрение ожило в ее душе.
Она схватила Тинку за плечи и безумными глазами поглядела ей в лицо. Казалось, она хочет заговорить, спросить: истина обрушилась па нее, как удар меча.
— Идем, идем, — робко молила Тинка.
Но мадам Бэллинг вырвалась и с тихим стоном, будто подстреленный зверь, который вот-вот рухнет замертво, помчалась прочь. Она поняла.
Да, теперь она все вспомнила и все поняла. Все рухнуло. Это лесничий — это он — отнял у нее ее дитя.
Она бегом пересекла двор, поднялась на крыльцо, распахнула дверь.
Он отнял у нее дочь.
Она тяжело рухнула на стул и осталась сидеть посреди разоренной комнаты. Она бормотала слова, смысл которых был ей темен, она проклинала его, оплакивала ее, молила фру о прощении, вздымала к небу дрожащие руки.
— Господи боже мой, ради меня… она не ведала, что творит, господи, господи, ради меня… она не ведала, что творит.
Она смешивала фру и господа бога, она взывала к ним в одинаковых словах.
— Боже милостивый, я, которая родила ее, я, которая родила ее, молю тебя, молю тебя…
От повторения одних и тех же слов хлынули слезы, она уронила голову на стол и продолжала молиться…
Тинка кликнула Ларса, Они искали — Андерс помогал им — в доме, в саду. Софи бегала за ними следом и причитала, держа в руке два платка.
Она и нашла в траве башмаки Тине.
Ларе начал с берега шарить багром в вязком прибрежном иле.
Когда он нашел утопленницу, Андерс помог ему вытащить ее на берег.
Тинка, рыдая, упала на зеленую траву и отвела волосы с искаженного лица.
— Поднимите ее, — сказала она, и они все вместе положили тело на принесенный из дому брезент.
Тинка сняла с головы платок и закрыла им лицо подруги.
Они внесли ее в дом: ил и вода капали на пол.
Софи убежала — она не рискнула дотронуться до умершей. Но Тинка вместе с Марен начали хлопотать над телом Тине: сложили ей руки и перенесли на ее же кровать, стоявшую под портретом фру.
Тинка пошла за мадам Бэллинг. За один только час мадам Бэллинг стала глубокой старухой. Голова у нее тряслась, голос изменился.
— Где она? — спросила мадам Бэллинг.
Тинка не могла говорить.
Мать увидела лужицы на полу коридора и спросила:
— Она у себя?
— Да, — шепнула Тинка.
И обе вошли в комнатку Тине. Мадам Бэллинг отвела простыню с лица дочери.
— Детка моя, детка, — тихо шептала она, и мелкие слезы бежали у нее по щекам; словно желая утешить дочь, она погладила ее волосы и сказала: — Значит, это был он.
Она уже все простила.
Прислонясь головой к дочерней постели, она начала горько плакать и жаловаться — без слов.
Потом она встала и глухим голосом, будто во сне, сказала:
— А теперь ей надо вернуться домой. — Она сама покрыла носилки простыней. Ларс-батрак и Андерс-хусмен задами, по безмолвным полям, отнесли Тине домой.
В школе стояла тишина. По дому разносились только удары молотка, которым Тинка и Густа приколачивали в зале белые простыни.
Софи пробралась на кухню, где хозяйничала хусменова жена, и в страхе слушала доносившиеся сверху звуки.
— Ее небось обрядят в настоящий саван? — придушенно шептала Софи, словно боясь собственного голоса. — Грех будет, если она не получит настоящий саван.
— Они как раз ее обряжают, — шепнула в ответ хусменова жена.
— Ай-яй-яй, обряжают, — всхлипнула Софи с непонятным удовлетворением в голосе. Под лепет Бэллинга, разносившийся по всему дому, она разулась, шмыгнула в комнату и беззвучно отворила двери зала.
Здесь были Тинка и Густа, обе странно бледные в отблеске белых простынь.
— Можно поглядеть на нее? — робко шепнула Софи.
Тинка и Густа ничего не ответили, они только указали кивком головы на белые носилки.
Софи отвела простыню с безмолвного лица, пустила слезу, обошла постель и осмотрела длинное «одеяние».
— Вы, что ли, все простынями укроете? — шепнула она.
И опять ей не ответили.
Зазвонили колокола, возвещая погребение лейтенанта Аппеля, у трактира вышла из экипажа фру Аппель, покрытая длинной вуалью.
Мадам Хенриксен поспешила к ней и, помогая выйти, сообщила, что «Тине, ну, которая из школы», тоже умерла нынче утром.
— Когда, когда? — переспросила фру Аппель с таким видом, будто не расслышала сказанного, и даже не стала ждать ответа, будто не было на свете других умерших, кроме ее сына.
Софи вернулась на кухню.
— Да… они ее уже обрядили, — зарыдала она и снова надела башмаки, — она лежит такая миленькая, вся в белом.