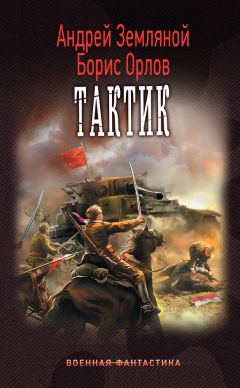Борис Кундрюцков - Казак Иван Ильич Гаморкин. Бесхитростные заметки о нем, кума его, Кондрата Евграфовича Кудрявова
— Его-то.
— Это кого?
— Ивана Ильича.
— Какого Ивана Ильича? — не веря своим ушам, все более разгорячаясь, уже кричал Ильич.
— Да его-то. Ну, там скажем, Гаморкина.
— Гаморкина?
— Гаморкина. Што-б ему ни дна ни покрышки не было.
Иван Ильич даже растерялся от этих слов.
— Ни дна, говоришь?
— Да-а, и ни покрышки.
— Ни покрышки? — изумился Гаморкин и дотронулся до кудластой своей папашенки,
— Ну, брат, это ты того… Сильно очень… А казаченка расходился совсем. Я же
поспешил отвернуться.
— Ешшо-бы, таперь я вспоминаю, про какого Гаморкина вы говорить изволили… Ен-тот, который ка-аптенармус? Ды-к его же уся станица наша, Елизаветинская знаить. Ен же…
Тут Гаморкин моментально забеспокоился.
— Это не тот.
— То-от, то-от, — уверял повеселевший казаченок — тот… Ен хвасоль крал, да у сабе в чихауз складал. Станицы-то он? Эх, дай Бог память… Какой же это он станицы? Знал вить, да забыл…
— Да што ты, — волновался Гаморкин, — такъ вить ен совсем и без усякой станицы.
— Без станицы? Как же так. Как-же это человек без станицы могёть быть? Знаем мы его прохвоста.
— Да он иногородний, из под Царицына.
— Иде там — Царицына, не-е казак. Самый настоящий казак. Эге-ге-ге, вспомнил — Иван Ильич Гаморкин, станицы он будет…
Капли пота выступили у Гаморкина на лбу. Не выдержала казачья душа.
— Ху-у, да и едкие же вы Елизааветинские.
— Мы-то?
— Вы-то…
— Ето вы, дяинька, поклеп взводите, о Гаморкине усякая собака знаить. Однажды, помню, идем мы с батяней, навстречу нам Гаморкин. Задержали коней.
— Драсьте вам.
— Драсьте, — отвечает Гаморкин, — разрешите вас пригласить станичники хорошие, к Персиянихе, я свое рождение справляю третий день.
— Што-ж, отец мой, — отвечает, — зайдем, двум смертям не бывать!
Зашли в корчму.
— Вино есть от Пухляковскаго винограду?
— Есть. Извольте-с.
— А поесть?
— Тоже есть.
Тут ето Гаморкин к хозяйке.
— А бумага, пытает, у вас есть?
— Для чего, спрашивает хозяйка, ежели што, то и травкой можно.
— Нет, отвечает Гаморкин, мне бумага не затем нужна…
Болтает казаченок, глаза у него блестят. Иван Ильич шел рядом, повеся голову и с таким покорным видом слушал рассказ о самом себе, что и мне жалко его стало.
— А мы с батяней спрашивали его: „Зачем вам, станичник, бумажка нужна? Ежели што?…"
А Гаморкин опять к хозяйке.
— А марка семи-копеечная у вас есть?
— Для чего? — спрашивает хозяйка. — Ежели вы собирать изволите, то у моего мальца иде-то египетская есть.
— Нет, отвечает Гаморкин, здешней, почты. Хочу писать письмо ко всему Великому Войску Донскому.
— О чем? — удивились мы с батяней, и зачем усех безпокоить своими письмами?
— О чем? А о том, што армяшки из Нахичевани по Области, как клопы во все стороны ползуть, и покою от них казаку нет. Не пора ли их на Кавказ обратно водворить?
А в углу, надо вам сказать, сидел Баба-янц Абадила. Взмолился он тонким голосом.
— Пожалэй, просит, Эван Эльичь. Куды моя пошла тэпэрь, послэ твоэй писма?
— А пошла твоя в Тыфлыс, на рэка Кура, — кричит Гаморкин. Хитрый и продувной казачина. Задел армяшку за живое, видать с умыслом…
— Нэ сырчай, дюша мой. Я тэбэ вином угощу.
А подлец Гаморкин хоть бы глазом моргнул. (Иван Ильич поморщился). Даже бровью не повел.
— Нет, — отвечает, — с Нахичеванью вам срок пришел распрощаться. На Казачьей земле Арийского или Прометейского племени не потерплю.
Что нам, уговаривая Гаморкина, армянин вина понастановил, и что мы его попили — ужас. Тьму. Видимо и невидимо. Вот ето справили Гаморкинское рождение, так справили. Под конец, он упился и армянам жить вообще разрешил, только не в Нахичевани, а в Одессе. Все мы тогда развеселились. Ешшо казаков подошло — знакомцы усе, а Гаморкин к хозяйке:
— Девочки у вас есть?
— А для чего, — спрашивает, — ежели етого-прочаго, то наша станица высоконравственная, а ежели, для того самого — то найдется.
— Для того самого.
Но тут казаки Гаморкина уговорили без „того самого", и Кавказско-Нахичиванского человека к хозяйке за великую ея мольбу и отпускное пустили. По сему случаю с час корчма без хозяйки была. Потом нашелся новый хозяин в лице нашего армянина и вступил в свои обязанности.
— Я, — говорит, — ни в Нахичевань, ни в Адэссу не поеду, а как я есть армэнын и казачэство лублу, то астаюсь в названной станицэ при вдовэ Екатэрыне Васыльэвне Пэрсыяныхе.
Гаморкин хотел и ето в письмо занести, как разительный пример засорения Казачества чужим алиментом, да армянин ешшо вина поставил.
Там же етот Гаморкин с кавказским человеком страх как подружился и заночевал у него. А мы — по знакомцам пошли. По сабе. Так как-же я его не знаю. Хитрюшший такой, што лиса. Пропал потом и армянин, и корчма писчебумажная.
Вдали загорелся Черкасский собор своим золотым куполом. Кривянка разрослась в ширину, в зелени вся, вся то из белых низень ких куреней.
Взглянул Гаморкин на выглянувшее солнце, на меня поглядел, потом на казаченка, как-от так приосанился.
— Ну, будя. Много, ты, станица, языком бил. Поглядикась на мине вострейше.
Казачек глянул, и… побледнел.
— Признал? — гаркнул Гаморкин во весь свой степной голос. — Я табе, сукина сына, вином ешшо поил… А?
Казаченок тут юркнул в чей-то садок, замелькал между постройками, только мы его и видывали.
— Ишь, — самодовольно усмехнулся Иван Ильич, — ишь. Вот он Кондрат Евграфыч, какой мне почет и уважение. Признал пострел меня. Враз, можно сказать, признал.
Надо вам сказать Иван Ильич, жил и работал все время с отцом, вернее за отца. Молодым, как-то так вышло, жениться ему не пришлось. Когда я его спрашивал почему? — он многозначительно говаривал.
— За двумя зайцами погонишься, — ни одного не поймаешь.
Но кто были эти „зайцы", как можно было бы предположить, женского пола, он не говорил.
Хоть и было упущено время, но думка иметь хозяйку-казачку, повидимому не покидала Ивана Ильича. Часто он о чем-то мечтал и не обращал на меня в такие дни никакого внимания, даже не заходил ко мне, в летнюю кухню. Задумывал и я строиться в ту пору и осесть навсегда в станице, наперекор батюшке и матушке, которые давно уже из Новочеркасска перебрались в Каменскую. Не хотелось мне отрываться от земли. К тому же мне обещал свою помощь Иван Ильич, а это лето выдалось урожайное и мы слегка забогатели с ним. Все складывалось по хорошему, даже осень подступила замечательная, с удивительно мягкой и приятной погодой, но грустные настроения не оставляли Гаморкина и начали уже и меня беспокоить. Зачем-то уходил к девкам. И вообще, что-то замышлял, видимо, он.
Скоро это все разъяснилось.
Под вечерок, вошел он радостный, таким фертом, ко мне, стал по середине и говорит.
— Ну, — Евграфыч, венчаюсь я.
— С чего? — спрашиваю, делая удивленное лицо.
— На мед потянуло. Да, говорять, и война опять близко. Девку сыскал славную, с соседнего хутора. Прозывается Настасья, а по батюшке — Петровна. Хошь ни хошь, а на свадьбе у меня изволь быть.
Радостный то он, радостный, а вижу — пугается чего-то, или сам себе не верит.
— Добро, отвечаю, если надумал, идет. Мне что, — могу.
И пошли тут разные приготовления, весь хутор и вся станица в них участие принимала.
— Иван Ильич, а Иван Ильич — прибежит мальченок-подсанишка — когда-жа жана вселится?
— Кыш, — прикрикивал Гаморкин.
— Иван Ильич, а-а-а-а, с законным наступающим браком!
Гонит казачат Иван Ильич, взрослым отвечает на поздравления, а самому ему приятно, будто кто душу маслом смазывает. Даже у него чуб горой пошел, и фуранька на каркасе аеропланом вздулась. Гордился, гордился, только перед самой свадьбой сробел.
Оно и понятно.
Поп у нас, станичники-читатели, дюже страшный был. Вот как описывал его сам Гаморкин.
— Волосья у его — во-о. Бородишша — во-о. Нос багровый и вот етак — дулей. Страшный и удивительный у нас, Евграфыч, поп. Рукавом, што крылом, как взмахнет, так и разойдется на все стороны ветер. Которые старушки казачьи, отекшие, так на ногах и не стоять — валятся. Где была там и — бух. И к нему в трепете.
— Отец Никодим, благослови.
— Во Имя Отца и Сына… к-ха, к-ха…
Етаким ерихонским голосом.
И как значит пришли мы все в церковь, что-б после службы венчание справить, вижу — опять оробел Иван Ильич. А народу — ровно сельдей в бочке, так много набилось. Из дальних хуторов прибрели и прискакали.
— Кондрат Евграфыч, — взмолился тут ко мне Гаморкин, — могёть ты за меня обвенчаишься? Девка она славная, да и казачка хорошая. Настасья звать. А я уж… того-етаго…
— Что ты, — уговариваю я его, глянь народу то сколько понапихано. На тебе лампасы, а ты труса празднуешь.