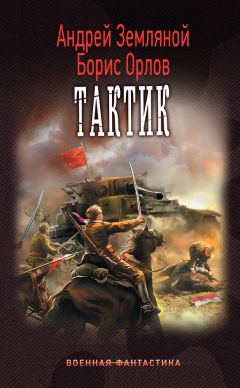Борис Кундрюцков - Казак Иван Ильич Гаморкин. Бесхитростные заметки о нем, кума его, Кондрата Евграфовича Кудрявова
— А позвольте узнать — льщу ему грубо — о какой-такой материи раздумываете?
— Да материя известно какая: обчественные казачьи дела-с…
Вот ты маракуй, Кондрат Евграфыч… Перемысли такое обстоятельство. Нет у мене маманьки, Царствие ей Небесное, живу с батя-ней, а иной раз все так и вспоминается, как наша полная семейная жизньюшка текла. Как быдто сычас ето все было…
Выпьет это мой отец, Илья 0омич, малую толику, да на маманьку и наскочит…
— Ты меня не слухаться? — говорит и почнет бить ее по всевозможниим местам, а она смеется и в пущее бешенство его вводит. Уж я большой был и сидел, помню, с пьяным отцем в курене. Напился он, и-и-и-и, здорово!… Кур хворостиной по леваде гонял, што-б, ровно голуби на небеса летели… Потом, значится, за меня принялся. Маманька, в те-поры в станицу по делам ушла, а он меня и поймал, да и стал рассказывать… И спьяну, заметь, а интересно, быдто сказка…
— Я, Ванюшка, твою мать бью на… мифологическом основании…
Враз меня заинтересовал.
Што-й-то я ел, да так с открытым хаво-лом и остался… Сгреб айданчики, в карман уложил, сачку в другой. Айданчиков у меня была тьма-а. Все сачкой наиграл, она у меня была чи-ижолая от свинчатки-то и в синюю краску выкрашена. Хороша-а-а…
— Дальше то что, Ильич?
— Дальше? — с сожалением отрываясь от воспоминаний, с мечтательными глазами тянет Гаморкин — дальше, поднял папанька брови, да как бабахнет по столу кулаком… От такого сильного вступления я ешшо больше заинтересовался и мурашки даже у меня поползли по спине, стал я весь — слух и внимание…
Дед, мол, мне, Ивашка, сказывал, Фома Фомич… Въ древности, значится, была степь и Дон текёть по ней… Текёть и гекёть… В те-поры казаки по миру шатались конными и место сабе подходяшшее искали — где-бы приткнуться?
И шел, яко-бы, с кибиткой при девяти конях, распрапрадед наш Силетий Гаморкин. Сказывали, напоследках, он до святых дослужился и стал мучеником за веру. Идет Силетий и с ним стремя в стремя — сват его Гаврил Яковлевич Араканец. Только с гор сошли, в степь взошли — говорит Силетий:
— А, што, сват, не устроиться ли нам на ровном месте?
— Отчего-же… — отвечает Араканец — можно… И к тому-ж все видать — кто и как… Чи сзади, чи спереду… К тому-ж — река и имя ей Амазоний… (Это Дон наш так ране прозывался).
Подняли крик.
— Атаманы-молодцы, не пора ли нам на этом месте присосаться?
Собрались все и стали станом. Кто вверх пошел, по реке поднялся, кто по речушкам запольным и иным прилаживается на житье… Народ там уже какой-то жил — высококультурна… Ничего сабе — вежливый… Потеснился, а потом и совсем исчез. Кой-какие штуки переняли, еленя в Войсковую печать вставили. Ничего — живем… Баб только нет… А иначе культура высокая: землю поделили, табуны водим, рыбу ловим, набеги правим — все честь-честью… — культура!… А баб нет… Што за притча такая? Поймали одного.
— Ты кто?
— Скиф.
— Здорово приятно… Дозвольте станичник за ручку подержаться… Скажи-ка, любезнай, иде бабье ваше?
Махнул на восток рукой.
— С царицей ушли…
Переглянулись казаки — што за притча
такая?
— Зачем?
Хотел он што-то ответить, только слышим, труба играить и в степи пыль столбом стоит. Конечно, все к валам кинулись. Тут Силетию его-ж конь в переполохе копытом на мозоль наступил. Хотел распрапрадед наш крикнуть, а уже сват его орет благим матом.
— Мать твою за ногу… Жены приехали…
Смотрят казаки — действительно, тысяч несколько бабья прискакало. Лихо это так выглядають… Волосья у них развеваются. Шкуры висят и все прочие причиндалы — все как есть, на своем месте… Силетий тут и закричал:
— Станичники-и, разбирай!
А передняя, стройная, да красивая, вылетела наперед на караковом жеребце, Царица, значит, Кондрат Евграфыч, руку ввысь подняла.
— Што, за народ в мою страну прекрасную влип?!
— Казаки, — галдят наши.
— А государство ваше?
— Казакия.
Засверкала глазищами, под ними коричневые круги, пылью запорошенные, а зеньки — так и жгут, так и жгут.
— Иде-ж оно?
— А где станем, там наш и Присуд Казачий.
Но тут к ней Силетий подошел, перевел разговор на другую сторону. Так, мол, и так…
— В этом округе, я — Окружной Атаман и сойти вам с коняшки не угодно-ли? К тому же казачек у нас вовсе нет… Не плодимся и не размножаемся в этих местах. Народу же Казачьяго — четыре тышши двести семь человечков. С твоими мужичками таперь до десяти тышченок набегит.
Как глянула она на него… Как вздыбит коня…
— А-а-а. Захватчики!…
— А и не правда, отвечают ей, хозяйками ушли, хозяйками и будете.
Тут и ее конь Силетию на мозоль наступил… Вскинулась она опять.
— Што-б это я мушчине покорилась?… Да ни в жисть такому сраму не бывать…
Как стебанет Окружного Атамана плетюганом через лоб, Силетия, значит.
Свернулся распра-прадед наш калачиком, глаза у него чуть не выскочили…
— Так, — взвыл он, — дык так? Добре; хватай, — командует, — не хмытьем, так катаньем. Урра-а-а!
Начали казаки девок ловить. А те, подлюги, до убийства дошли — обороняются.
Сват Гаврил Яковлевич Араканец одну рыжую присмотрел, расслышал что ее подруженьки в жарком бою, Лисиппой кличат — попёр к ней… Она его решительного вида испужалась и кинулась наутек. А он за ней в догон пошел. Идет и взывает.
— Лисиппа, Лисиппа… Куды-ы-ж ты? Я тебе научу сковородки мыть.
Што бою было… Четыре дня бились… К концу Силетий, а он Царицу себе завоевывал, у нас-то Гаморкиных — губа не дура, весь опух и на руках ходил мозолями в небо — но все-ж таки ожанился на ей… Ху-у… Ужасные времена. Допотопные, можно сказать, страхи!…
Стало Казачьего Народа вдвое более прежнего.
Только… всегда, как значится к супружеским обязанностям, или там к чему нибудь иному подступать приходится, завсегда сперва началу надо за патлы потаскать и в полное безсилие привести. Упорные были — прямо чудеса. Теперь-то вроде нечего — образовалось все и в норму вошло. Да-а, Ивашка. Таки-то дела, — бывало скажет с сокрушением отец мой.
— За то и бью матку твою. Много в ней, этого-самого, мифологического осталось. Никак к Казачьему обычаю не привыкнет. А через Царицу Скифскую распрапрадед наш Силетий Гаморкин и в мученики попал.
— Могеть это все и правда? — изподлобья установился на меня Иван Ильич, а когда я, услышав в его тоне полу-вопрос, открыл рот, он сурово и внушительно добавил.
— Отец мой с пьяных глаз, завсегда истину говорил.
Когда кончилась первая страдная пора, пошли мы по одному делу в столицу нашу — Новочеркасск. Дело было пустячное и что было досадно, это то, что кони были заняты и пришлось нам по жаре плестись пешком.
В дороге увязался за нами попутчик.
— Здрасьте, отцы. Дозвольте за компанию? Не в Черкасск ли идете?
— Да. А ты то сам кто будешь? — замедляя шаги, проговорил Гаморкин. Казачек, что за нами увязался, нес сапоги за плечами, ступая босыми ногами по пыльной змеей вьющейся дороге, был высоко роста, худой очень, к тому-же с длинным носом. На лбу у него от снятой фуражки обозначился багровый обруч и пыльные шаровары с пыльными же, косо к низу срезанными, лампасами сбились к завязкам.
— Я-то?
— Ты-то… — сказал Иван Ильич, — каких станиц?
Казачишка уныло покачал головой.
— Мы-то? Елизаветинские.
— Видать… шмыгнул носом знаменитый Гаморкин: — Ну, в Н-ой бывал? — назвал Иван Ильич свою станицу.
— А как-же, бывал.
— А Гаморкина, Ивана Ильича знаешь?
Видел я, что страх как хочется Гаморкину покичиться предо мной своей известностью. С плохо скрываемым любопытством нетерпеливо ожидаем был им ответ.
Казачишка поднял брови. Серые глаза его стали задумчивыми и в них промелькнула даже тень напряжения. Видно было, что он не знал, что ответить на столь прямой вопрос, боясь попасть в просак.
— Гаморкин?
— Ну-да. Иван Ильич…
— Иван Ильич?
— Да, да. Тот, который каптенармусом в действительную служил…
Явно уже хотел помочь Гаморкин, но казак мотал головой.
— Каптенармусом? Г-м. Не з-знаю, не слыхал… г-м… г-м… мычал казачек.
Тут Иван Ильич, взглянул на меня. Досадливые его глаза уловили деланно сосредоточенное выражение на моем лице, он что-то поняв в нем, вдруг осерчал.
— Ну и темнота-ж у вас!
— У нас-то?
— У вас, што-б вас… г-м, г-м.
— Простите, дяинька, не знаем такого. Иль-юу Иль-ича Гаморкина-а?
Иван Ильич насилу сдержался и, стараясь говорить насмешливо и саркастически улыбаясь (для меня), поправил:
— Да не Илью Ильича, куриная твоя голова, не Илью Ильича, а Ивана Ильича.
Казачек тоскливо посмотрел в степь и не выдержал:
— Да ну его, дяинька, к чертовой матери!
— Кого? — испуганный неожиданностью переспросил Гаморкин, теряя весь свой апломб и амбицию.