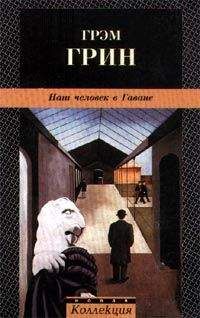Грэм Грин - Поездка за город
И ей вспомнилось, сколько раз — всех и не перечесть — он просаживал последние их медяки на автомат-рулетку.
Притянув ее к себе, он уверенно проговорил:
— Мы любим друг друга. Пойми, выхода нет. Доверься мне.
Словно искусный софист[3], он знал, в какой последовательности пускать в ход доводы логики. Все они так убедительны — не подкопаешься. Все, кроме одного: «Мы любим друг друга». Вот в этом она впервые вдруг усомнилась, увидев, как он беспощаден в своем эгоизме.
— Лучше вот так, за компанию, — повторил он.
— Но должен же быть какой-то выход...
— Почему это должен?
— Потому что иначе люди только так бы и поступали — всегда и везде.
— А они именно так и поступают, — сказал он с мрачным торжеством, словно ему важнее было доказать ей неопровержимость своих доводов, чем найти — ну, выход, что ли, который позволил бы им жить дальше. — Ты почитай газеты. — Теперь он говорил шепотом, так мягко и ласково, будто надеялся, что самые звуки его голоса настолько нежны, что от них сразу исчезнут все ее страхи. — Это называется двойное самоубийство. В газетах об этом все время сообщают.
— А я бы не смогла. Не хватило бы смелости.
— А от тебя ничего и не требуется. Я все сделаю сам.
Его спокойствие ужаснуло ее.
— Так, значит, ты... Ты мог бы меня убить?
— Да, я достаточно тебя для этого люблю. Я обещаю: тебе не будет больно. — Казалось, он уговаривает ее принять участие в какой-то обыденной, но неприятной ей игре. — Зато мы вечно будем вместе... — И тут же добавил рассудительно: — Конечно, если она существует, эта самая вечность...
Ей вдруг показалось, что любовь его — блуждающий огонек на болоте, а болото — это его безграничная, полная безответственность. Раньше его безответственность нравилась ей, но теперь она поняла, что это бездонная трясина, сомкнувшаяся над ее головой.
— Но ведь мы можем продать твои вещи, — взмолилась она. — И чемодан.
Она понимала: этот спор забавляет его, он предвидел все ее возражения и заранее подготовил на них ответ; он только притворяется, что принимает ее всерьез.
— Ну, может, получим за него шиллингов пятнадцать, проживем на них день, и то не слишком весело.
— А вещи?
— Опять-таки лотерея. Возможно, выручим за них шиллингов тридцать. Протянем еще три дня, если будем на всем экономить.
— Но, может быть, мы устроимся на работу?
— Вот уже сколько лет пытаюсь устроиться.
— А пособия не дадут?
— Я не рабочий и не имею права на социальное страхование. Я вроде представитель господствующего класса.
— Ну, а твои родители, дадут же они нам что-нибудь...
— Но у нас есть своя собственная гордость, не так ли? — возразил он с беспощадным высокомерием.
— А этот человек, который одолжил тебе машину?
— Ты помнишь про Кортеса[4] — того, который сжег свои корабли? Вот и я сжег свои. Теперь я должен убить себя. Понимаешь, эту машину я угнал. Нас задержат в первом же городе. Вернуться и то уже слишком поздно.
Он рассмеялся. Это был самый последний и самый сильный его довод, больше им спорить не о чем. Она видела: он этим вполне удовлетворен и совершенно счастлив. В ней все возмутилось:
— Ты, может, и должен убить себя. А я — нет. С какой стати? И какое право ты имеешь?..
Она вырвалась от него и ощутила за собой твердый, широкий ствол живого дерева.
— Ах, так! — сказал он раздраженно. — Ну, если ты хочешь жить без меня, тогда, конечно...
Прежде его высокомерие восхищало ее: свое положение безработного он сносил с достоинством, — но сейчас это даже высокомерием нельзя было назвать — просто ему ничто на свете не дорого.
— Можешь отправляться домой! — бросил он. — Не знаю только, как ты доберешься. Довезти я тебя не могу, я остаюсь здесь. Завтра сможешь пойти на танцульку. Да, кажется, на днях в церковном клубе партия в вист? Моя дорогая, желаю тебе наслаждаться домашней жизнью.
Он был жесток, беспощаден. Он словно зубами раздирал спокойствие, обеспеченность, порядок, и у нее невольно зародилась жалость к тому, что они прежде так дружно презирали. В сердце к ней застучался отцовский молоток, вколачивающий гвоздик то тут, то там. Она попыталась было найти ответ позлее; в конце концов, можно ведь кое-что сказать и в защиту негативного достоинства — умения жить, не причиняя зла другим, просто существовать, как собирается существовать в ближайшие пятнадцать лет ее отец. Но гнев ее тут же угас. Они попались друг другу в ловушку. Это именно то, чего ему неизменно хотелось: темное поле и револьвер в кармане, побег и смертельный риск. А ей, не такой честной, хотелось взять всего понемножку от обоих миров — легкомыслия и прочного чувства, опасности и верного сердца.
— Я пошел, — сказал он. — Ты со мной?
— Нет! — отрезала она.
Он заколебался. Безрассудной отваги в нем на какой-то момент поубавилось, сквозь тьму она ощутила его растерянность и смятение. Ей хотелось сказать: «Не будь идиотом. Брось машину. Пойдем со мной. Кто-нибудь нас подвезет до дома», — но она знала: он заранее продумал все эти мысли, у него на все есть ответ: «Десять шиллингов в неделю, работы нет и не будет, годы уходят. А умение терпеть — добродетель предков».
Вдруг он торопливо зашагал вдоль изгороди, не разбирая дороги; и ей слышно было, как он споткнулся о корень и буркнул:
— У, черт!
От этого простого, обыденного словца, донесшегося из мрака, ее охватили ужас и боль.
— Фред! Фред! Не надо! — закричала она и бросилась прочь. Остановить его было ей не под силу и хотелось лишь отбежать подальше, чтобы ничего не услышать. Под ногой у нее затрещала ветка, это было как выстрел, и сразу же где-то за изгородью, на другом конце поля, вскрикнула сова. Казалось, идет репетиция с шумовым оформлением. Но когда выстрел действительно раздался, он прозвучал совсем по-другому — глухой удар, будто кто-то рукою в перчатке стукнул в дверь, а никакого вскрика не было. Сперва она даже не обратила внимания, но потом не раз думала, что, в сущности, не знает точно, когда ее возлюбленный перестал существовать.
Ничего не различая в темноте, она с размаху ударилась о машину. В слабом свете, падавшем от щитка, она увидела на сиденье носовой платок в синий горошек, купленный у Вулворта, и хотела было забрать его, но потом спохватилась — нет, никто не должен знать, что она здесь была. И, выключив свет на щитке, стала пробираться через клевер, стараясь ступать как можно тише. Предаваться жалости можно будет потом — но не раньше, чем она окажется в безопасности. Ей хотелось захлопнуть за собой дверь, запереть ее на засов, услышать, как щелкнет задвижка.
До клуба было каких-нибудь десять минут ходьбы по пустынной дороге. Пьяные голоса что-то выкрикивали, — как ей показалось, на чужом языке, хотя это был тот же самый язык, на котором говорил Фред. До нее донеслось позвякивание монет в автомате-рулетке и шипение содовой. К этим звукам она прислушивалась, как враг, замышляющий бегство. Они отпугивали ее своим бездушием. Взывать к этому эгоизму просто бессмысленно.
Возле клуба какой-то человек пытался завести машину — стартер не слушался.
— Я красный, — твердил он. — Разумеется, я красный. Я считаю...
Сухощавая рыжая девушка, сидевшая на ступеньке, внимательно следила за ним.
— Недоделанный ты, — сказала она.
— Я либеральный консерватор.
— Не можешь ты быть либеральным консерватором.
— Ты меня любишь?
— Я люблю Джо.
— Не можешь ты любить Джо.
— Поедем домой, Мик.
Человек снова попробовал завести машину; тогда она подошла к ним, сделав вид, будто тоже вышла из клуба, и спросила:
— Не подвезете меня?
— Конечно. С удовольствием. Садитесь.
— Что, не слушается?
— Никак.
— А вы подкачали бензин?
— Вот это мысль!
Он поднял капот, и она нажала стартер.
Начался дождь, сильный, неторопливый, упорный — должно быть, именно такой дождь поливает могилы, — и мысленно она вернулась по пустынной дороге на вспаханное поле, к живой изгороди, к высоким деревьям — что ж это было такое: дубы, буки, вязы? Она представила себе: струи дождя падают ему на лицо, вода собирается в глазницах и стекает по обеим сторонам носа, но это не вызывало в ней никаких чувств, только радость при мысли, что ей удалось от него убежать.
— Вы куда направляетесь? — спросила она.
— В Дивайзис.
— А я думала, может, в Лондон.
— Ну, а вам куда?
— В Голдинг-парк.
— Что ж, поехали в Голдинг-парк.
Рыжая девушка объявила:
— Мик, я пошла в дом. Дождь идет.
— Так ты не поедешь?
— Я пойду поищу Джо.
— Ну и ладно.
Он рывком бросил машину вперед и с грохотом налетел на деревянный столб, погнув крыло у своей машины и ободрав краску у чужой.
— Мы не туда едем, — сказала она, когда они выбрались с маленькой стоянки.
— А мы свернем.
Он дал задний ход, угодил в канаву, снова выехал на дорогу.