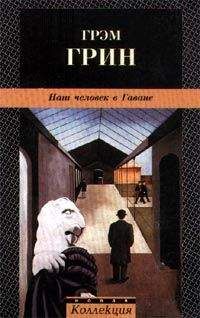Грэм Грин - Поездка за город
— Ты ничего не имеешь против? — вдруг спросил он.
— Нет, что ты.
— Разве можно хоть что-нибудь скопить, когда получаешь всего-навсего десять шиллингов в неделю на карманные расходы? И так я еле кручусь. Надо здорово шевелить мозгами, чтобы хоть как-то разнообразить жизнь. Полкроны на сигареты. Три шиллинга шесть пенсов на виски. Шиллинг на кино. Остается три шиллинга на пиво. Раз в неделю встряхнешься и тянешь дальше.
Виски стекало ему на галстук, и маленькую кабину наполнил запах спиртного. Ей этот запах нравился. Это был его запах.
— Но даже и эти деньги старики дают со скрипом. Они считают, я должен найти себе работу. В их возрасте люди не могут понять, что для нас никакой работы нет и не будет.
— Верно, — сказала она. — Они уже старые.
— А как твоя сестра? — неожиданно переменил он разговор.
Полосы яркого света сметали с дороги вспугнутых зверьков и пичужек.
— Завтра идет на танцы. А где будем завтра мы?
Но он не хотел обсуждать эту тему. У него был свой замысел, и держал он его при себе.
— А хорошо вот так ехать.
— Тут неподалеку есть клуб. В доме, где закусочная. Меня Мик туда записал. Знаешь Мика?
— Нет.
— Он ничего. Завсегдатаям в этом клубе подают виски до двенадцати ночи. Заглянем туда. Скажем Мику «здрасьте». А утром... Ну, это мы после решим, сперва выпьем стаканчик-другой.
— А деньги у тебя есть?
Им навстречу с пригорка плыла деревенька, за ее закрытыми ставнями и дверями все уже спало; казалось, оползень плавно несет ее вниз, на исполосованную равнину, с которой они выезжали. Низкая серая церквушка в нормандском стиле, гостиница без вывески, куранты, отбивавшие одиннадцать.
— Пошарь-ка на заднем сиденье, — сказал он. — Там чемодан.
— Он заперт.
— Ключ я забыл дома.
— Что в нем?
— Так, кое-какие вещи, — невразумительно ответил он. — Можно их заложить, будет на выпивку.
— А спать где?
— В машине. Ведь ты не боишься, правда?
— Нет, — сказала она, — не боюсь. Но это так... — Она не могла найти слова, которое вобрало бы в себя все: сырой, резкий ветер, мрак, ощущение необычности, запах виски, стремительную езду.
— Хорошо идет, — сказала она. — Мы, должно быть, уже далеко заехали. — И, увидев сову, летевшую низко над полем на упругих мохнатых крыльях, добавила: — В самую глушь.
— Это еще не глушь. По этой дороге так скоро в глушь не заедешь. Сейчас будет клуб.
Но она вдруг почувствовала: ничего ей не надо, кроме быстрой езды с ним вдвоем сквозь ветер и тьму.
— А нам непременно надо заезжать в этот клуб? — спросила она. — Может, поедем дальше?
Он искоса глянул на нее. Обычно он соглашался с любым предложением — казалось, он, подобно чувствительному метеорологическому прибору, только затем и создан, чтобы подчиняться любому ветерку.
— Ну что ж, — сказал он. — Как пожелаешь.
И тут же начисто позабыл о клубе. Вскоре показался ярко освещенный длинный одноэтажный дом в стиле тюдор и плавательный бассейн при нем, почему-то заваленный сеном. Мгновенье, и все осталось позади — громкий всплеск голосов и пятно света, скрывшееся за поворотом.
— Вот теперь, пожалуй, уже настоящая глушь, — сказал он. — Дальше клуба никто не ездит. Кроме нас с тобой, здесь ни души. Спокойно можно проваляться в поле до Судного дня, и никто нас не найдет — разве что пахарь какой-нибудь... Если только здесь пашут.
Он снял ногу с акселератора, постепенно сбавляя скорость. Деревянные ворота, за которыми начиналось поле, почему-то были открыты, он въехал в них. Подскакивая на кочках, машина прошла порядочный кусок вдоль живой изгороди и остановилась. Он выключил фары; теперь машину освещало лишь тусклое мерцание приборов на щитке.
— Тишина какая, — сказал он с тревогой в голосе, и они услыхали над собой хлопанье крыльев вылетавшей на охоту совы, потом шорох в живой изгороди, куда юркнул какой-то зверек. Оба они были горожане до мозга костей и не могли распознать того, что их сейчас окружало. Крошечные цветочки, распускавшиеся на живой изгороди, для них не имели названия. Он кивком указал на темневшие в конце изгороди деревья:
— Дубы?
— А может, вязы? — отозвалась она, и их губы слились в знак примирения с этим обоюдным невежеством.
Поцелуй взволновал ее; сейчас она была готова на самую безрассудную выходку, но по его сухим, пахшим виски губам она почувствовала: он взволнован меньше, чем ему бы хотелось.
Чтобы вернуть себе уверенность, она проговорила:
— А хорошо здесь — за столько миль от всех, кого мы знаем.
— Ну, Мик-то неподалеку.
— А он знает?
— Никто не знает.
— Все именно так, как мне хотелось, — сказала она. — Где ты достал машину?
Он широко ухмыльнулся и взглянул на нее с каким-то диким, бесшабашным весельем:
— Накопил, все откладывал из десяти шиллингов.
— Нет, правда, где? Занял у кого-нибудь?
— Да, — сказал он и вдруг распахнул дверцу. — Погуляем!.. Мы с тобой никогда не гуляли за городом.
Она взяла его за руку и почувствовала: каждый нерв в нем затрепетал от ее прикосновения. Именно это она и любила в нем: никогда не знаешь, каким он будет в следующую минуту.
— Отец говорит, ты сумасброд. А мне нравится, что ты сумасброд. Что тут растет? — спросила она, ковырнув ногой землю.
— Клевер, что ли. А в общем, не знаю.
Они чувствовали себя как в иноземном городе, где все непонятно: и вывески, и дорожные знаки; нигде никакой точки опоры, не за что ухватиться — их вместе сносит куда-то в этой черной пустоте.
— Может быть, фары включить? — сказала она. — А то как бы нам тут не заблудиться. Луны совсем не видно.
Ей казалось, что они уже отошли от машины на порядочное расстояние: ее едва можно было различить.
— Ничего, не потеряемся, — сказал он. — Как-нибудь. Не волнуйся.
Изгородь кончилась, они подошли к высоким деревьям. Притянув ветку, он потрогал клейкие почки.
— Это что, бук?
— Не знаю.
— Будь потеплее, мы могли бы заночевать тут, под открытым небом. Уж на одну только ночь нам хоть в этом могло повезти. Так нет — холодина и дождь собирается.
— А давай приедем сюда летом, — сказала она, но он промолчал.
Ветер переменился — она это явственно ощутила, — и Фред уже потерял к ней всякий интерес.
В кармане у него был какой-то твердый предмет, она то и дело ударялась о него боком. Засунув ему в карман руку, она нащупала короткий металлический корпус, — казалось, он вобрал в себя весь холод ветра, сквозь который они так долго ехали.
— Зачем ты это захватил? — испуганно прошептала она.
При всем сумасбродстве Фреда ей до сих пор всегда удавалось его сдерживать. Когда отец называл его сумасбродом, она только посмеивалась про себя, довольная сознанием своей власти над ним и уверенная, что сумасбродство это не выходит за ею же поставленные пределы. Но сейчас, ожидая его ответа, она вдруг поняла, что его сумасбродство все растет и растет, за ним уже не уследишь, с ним не сладишь, ему нет конца и края, и у нее не больше власти над ним, чем над глушью и мглой.
— Не пугайся, — сказал он. — Я не думал, что ты его обнаружишь.
Он вдруг стал с нею нежен, как никогда. Он прижал руку к ее груди, и от пальцев его заструился широкий и ласковый поток невыразимой нежности.
— Ну, как ты не понимаешь... Жизнь — это ад. И мы ничего не можем поделать.
Он говорил очень мягко, но никогда еще она так явственно не ощущала, до чего доходит его безрассудство: он во власти любого ветра, а сейчас налетел восточный ветер, и слова его были пронизаны колючей снежной крупой.
— У меня за душой ни гроша, — говорил он. — Не можем мы жить без денег. А на работу нет никакой надежды. — Он повторил: — Нет работы. Вывелась начисто. И с каждым годом шансов все меньше, ты сама знаешь: ведь все больше и больше людей моложе меня.
— Но для чего мы заехали... — начала было она.
У него словно бы наступило просветление, он опять заговорил ласково, мягко:
— Мы любим друг друга, верно ведь? Жить друг без друга не можем. Что толку вот так болтаться и ждать — а вдруг судьба улыбнется нам... С погодой и то не везет, — добавил он и протянул руку, проверяя, не начался ли дождь. — Проведем несколько счастливых часов здесь, в машине, а утром...
— Нет, нет! — закричала она, отпрянув. — Ужас какой... Я никогда не говорила...
— Да ты бы и не узнала ничего, — ответил он мягко, но неумолимо.
Ей стало ясно, что слова ее, по существу, никогда не имели для него решающего значения; он поддавался ее влиянию, но не больше, чем всякому другому, и теперь, когда поднялся свирепый восточный ветер, говорить или спорить с ним было все равно что пытаться забросить в поднебесье обрывки бумаги.
— Правда, ни ты, ни я в Бога не верим, — сказал он. — Впрочем, как знать, может, тут что-нибудь да есть; а уж если кончать, то лучше вот так, за компанию. — И с удовольствием добавил: — Люблю риск!
И ей вспомнилось, сколько раз — всех и не перечесть — он просаживал последние их медяки на автомат-рулетку.