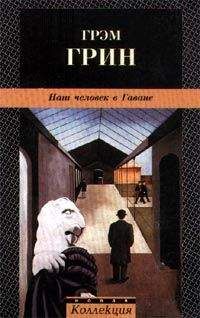Грэм Грин - Поездка за город

Обзор книги Грэм Грин - Поездка за город
Грэм Грин
Поездка за город
В этот вечерний час она, как всегда, прислушивалась к шагам отца — он обходил дом, запирая двери и окна. Отец служил старшим делопроизводителем в экспортном агентстве Бергсона, и, лежа в постели, она не раз с отвращением думала, что дом для него — та же канцелярия, он и ведет его на тех же самых принципах и следит за порядком с такой же самой тщательностью, словно и здесь он всего лишь надежный служащий, готовый в любой момент представить отчет директору-распорядителю. И он действительно представлял этот отчет каждое воскресенье в неоготической церквушке на Парк-роуд, куда отправлялся в сопровождении жены и двух дочерей. Они неизменно являлись за пять минут до начала, неизменно садились на одну и ту же скамью, и отец громко пел псалмы, фальшивя и держа свой огромный молитвенник на уровне глаз. «Вознося к небу песнь ликования, — так он еженедельно отчитывался перед Господом Богом, — один домашний очаг (должным образом упорядоченный) движется к земле обетованной».
Выходя из церкви, она старательно отводила глаза от трактира «Герб каменщика», у дверей которого, на углу, обычно стоял Фред, тоже временно исполненный ликования, — видимо, благодаря тому, что «Герб» уже с полчаса был открыт. Она прислушалась: вот закрылась задняя дверь, щелкнул шпингалет на кухонном окошке, и шаги снова стали приближаться — отец пошел проверить парадное. Он запирал не только входные двери, он запирал пустующие комнаты, ванную, уборную. Казалось, он запирается от чего-то, что явно может проникнуть сквозь первую линию домашней обороны, и потому на всем пути от входных дверей до кровати он возводил вторую.
Приложив ухо к тонкой переборке — дом был дешевый, стандартный, — она услыхала в соседней комнате голоса; она вслушивалась, и голоса становились отчетливей, словно в приемнике поворачивали регулятор громкости. Мать проговорила: «Готовить на маргарине...» — а отец: «Через пятнадцать лет станет куда легче». Потом заскрипела кровать, до нее донеслись приглушенные звуки нежности и уюта — это в соседней комнате немолодая пара чужих ей людей устраивалась на ночь... Через пятнадцать лет, невесело подумала она, дом перейдет в его собственность, он внес двадцать пять фунтов задатка, а остальное выплачивает ежемесячно как квартирную плату.
— Разумеется, я многое здесь улучшил, — любил повторять он после плотного обеда, надеясь, что хоть кто-нибудь из домочадцев последует за ним в кабинет. — Вот тут провел электричество, вот тут (и он возвращался к маленькой уборной в первом этаже) поставил батарею. А еще, — добавлял он с особым удовлетворением, — я разбил сад.
И, если вечер был ясный, он распахивал в столовой большое, до пола, окно, выходившее на зеленый коврик травы, ухоженный не менее тщательно, чем лужайка в каком-нибудь колледже.
— Голые кирпичи, вот и все, что здесь было, — говорил он обычно.
Все субботние вечера и погожие воскресные дни за пять лет были потрачены им на этот клочок дерна, окаймляющую его грядку с цветами и единственную яблоню, на которой ежегодно прибавлялось по одному безвкусному красному яблоку.
— Да, — говорил он, ища глазами, куда бы еще вбить гвоздь и какую былинку выдернуть, — я многое здесь улучшил. И если бы нам теперь пришлось продавать этот дом, кооператив был бы обязан вернуть нам больше, чем я ему выплатил.
В этом сказывалось не только чувство собственности, но и порядочность: некоторые, приобретя через кооператив коттедж, преспокойно давали ему разрушиться, а потом выезжали.
...Она все стояла, приникнув ухом к стене, — полная ярости, темная полудетская фигурка. В соседней комнате воцарилась тишина, но ей по-прежнему слышались звуки, сливавшиеся в сплошную мелодию собственничества: постукивание молотка, скрежет лопаты, шипение пара в батарее, щелканье запираемого замка, лязг засова — обыденные негромкие шумы, которыми сопровождается возведение домашних оборонительных рубежей. Она стояла, замышляя измену.
Было четверть одиннадцатого; у нее еще целый час на то, чтобы выбраться из дома, — пожалуй, даже слишком много. Бояться нечего. В этот вечер они, как всегда, втроем сыграли в бридж; сестра тем временем переделывала платье, готовясь к завтрашней танцульке; после бриджа она вскипятила чайник и заварила чай, потом налила горячей воды в грелки и разложила их по кроватям, покуда отец запирал двери на ночь. Он и понятия не имел, что одна из его дочерей — внутренний враг.
Она надела шляпу и теплое пальто: ночи еще стояли холодные; весна в этом году запоздала, как отметил сегодня отец, разглядывая почки на яблоне. Чемодан укладывать не стоит: это напоминало бы воскресные вылазки на море всей семьей или летние экспедиции в Остенде, из которых всегда возвращаешься домой, а ей хотелось быть такой же поразительно безрассудной, как Фред. На сей раз она не вернется. Тихонько спустившись с лестницы, она прокралась через тесную, заставленную переднюю и отперла входную дверь. Наверху все было тихо; она вышла и прикрыла за собой дверь.
У нее осталось мимолетное чувство вины из-за того, что она не могла запереть дверь на засов; но оно совершенно исчезло к тому моменту, когда она дошла до конца выложенной щебнем дорожки. Повернув налево, она зашагала по недостроенному шоссе, мимо унылых пустырей между домами, где искромсанные поля то и дело угрюмо напоминали о своем существовании — жидкою травкой, одуванчиками, кучами глины. Она торопливо прошла мимо длинной вереницы низеньких гаражей, напоминающих могилы на португальских кладбищах...
От холодного ночного ветра она приободрилась, и когда у фонаря Белиши[1] наконец свернула на торговую улицу, где темнели закрытые железными шторами витрины, то была уже готова на все, как новобранец в первые месяцы войны. Жребий брошен, и можно отдаться на волю этого необычного, увлекательного, ни с чем не сравнимого приключения.
Фред, как они и договорились, стоял на углу — там, где улица сворачивала к церкви. Поцеловав его в губы, она почувствовала запах спиртного и решила, что трудно найти человека, более подходящего для их замысла: лицо его в свете фонаря было радостным, беззаботным, и он показался ей таким же волнующим, необычным, как ожидавшее их приключение. Он взял ее за руку и увлек за собой в темный тупик. Потом ненадолго оставил одну. И вдруг из зияющей черноты к ней протянулись два столба мягкого света фар.
— Ты взял машину? — удивленно воскликнула она. И снова почувствовала его нервную руку, потянувшую ее за собой.
— Да. Ну как, нравится тебе? — сказал он и с лязгом включил вторую скорость, а когда они выбрались из тупика и покатили мимо окон с закрытыми ставнями, неумело выжал третью.
— До чего ж хорошо! Давай уедем далеко-далеко! — попросила она.
— Давай, — согласился он, следя за узенькой стрелкой спидометра, подрагивающей около сорока пяти.
— Это значит, что ты получил работу?
— Нет работы, — сказал он. — Вывелась начисто, совсем как птица дронт[2]. Что, видела ты эту птицу? — бросил он резко и включил фары; они проезжали перекресток, от которого шла дорога в поселок. Миновав кафе («Милости просим»), обувной магазинчик («Покупайте туфли, которые носит ваша любимая кинозвезда») и заведение гробовщика с большим белым ангелом из светящихся неоновых трубок, они вдруг оказались за городом.
— Никакой я птицы не видела.
— Ты не видела, как птица пролетела у ветрового стекла?
— Нет.
— Я ее чуть не подшиб, — сказал он. — Дрянное было бы дело. Есть такие — собьют человека и даже не остановятся; так это ничуть не лучше. Да, ну а мы как — остановимся? — спросил он и выключил огонек на приборном щитке, так что им уже не было видно, как узкая стрелка спидометра поползла к шестидесяти.
— Как ты захочешь, — ответила она, вся во власти своей безрассудной мечты.
— Ты будешь меня сегодня любить?
— Буду, конечно.
— И больше туда не вернешься?
— Не вернусь, — сказала она, навсегда отрекаясь от постукивания молотка, лязга засова, шарканья шлепанцев, которым сопровождался ежевечерний обход дома.
— Хочешь знать, куда мы направляемся?
— Нет.
В свете фар зазеленела низенькая, словно картонная, рощица и, снова потемнев, промчалась мимо.
Кролик, показав коротенький хвост, шмыгнул в живую изгородь.
— У тебя деньги есть? — спросил он.
— Полкроны.
— Ты меня любишь?
Она вложила в нескончаемый поцелуй все, что так терпеливо таила в себе, стараясь по воскресеньям не смотреть в его сторону и не проронить ни слова, когда у них за столом дурно о нем говорили.
— Проклятая жизнь, — сказал он.
— Проклятая жизнь, — эхом откликнулась она.
— У меня в кармане кварта виски, — сказал он. — Выпьешь?
— Не хочу.
— Тогда дай мне выпить. Крышечка отвинчивается.
Обнимая ее одной рукой и держа другую на руле, он закинул голову, чтобы она могла влить ему в рот немного виски.