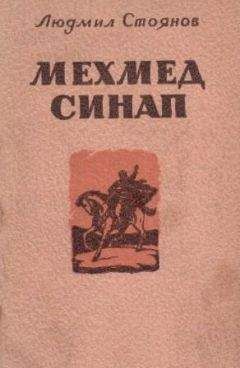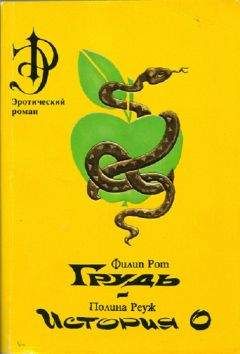Людмил Стоянов - Избранная проза
Людьми овладевает страх — пусть уж лучше неприятель начнет стрельбу: между двумя опасностями обретается равновесие, наступает безразличие.
К вечеру позиции оживают: солнце еще не село, а неприятельская артиллерия там, внизу, в затянутой тенью долине, уже начала твердить свой ежедневный урок.
Только сейчас догадываюсь поглядеть вперед — так страшно было там ночью, такой хаос царил и неизвестность. Ничего страшного! Земля, неутолимо жаждущая плуга. Тихое и ровное Калиманское поле создано не для кровопролития, а для всходов. Залитое солнечными лучами, оно тает в вечернем тумане, скошенное, с крестцами снопов на стерне, с жаворонками в синем небе, озадаченными непривычным визгом снарядов — этих новых, не виданных доселе птиц. В эту ночь меня уже не будут мучить в полубреду пламя и хаос. Кроткий образ равнины, врезавшейся между холмами, будет жить в моем сознании, как и морской залив с белыми парусами лодок…
— Эй, — слышу за спиной встревоженный голос. — Лазар, что с тобой?
Оборачиваюсь и ищу глазами неизменную улыбку Лазара Ливадийского. Но что с ним, в самом деле?
Не в состоянии держаться на ногах, он бессильно опустился на дно окопа. Голос его охрип. Пальцы посинели. Взгляд потускнел, а лицо, на котором не стало мускулов, — будто череп.
Мы глядим на него в недоумении, первое, что приходит в голову, — потерял сознание от истощения. Бай Стоян даже пытается напоить его из своей фляги: добряк, он хочет помочь ближнему в беде. Только бы не забыл, что пить из фляги уже нельзя. Надо будет напомнить ему об этом.
Голос того, кто первый окликнул Лазара, теперь произносит:
— Да не видите вы, что ли, — он холерный.
Каждого словно пронзило электрическим током. Руки машинально отдернулись, ноги отступили назад — больной остался лежать в ожидании санитаров, которые его унесут. Он корчится, но не от боли, а от слабости: пытается вытянуться, зарыться головой в землю.
Бедный Лазар! Самый жизнерадостный из молодых солдат; и вот он извивается, как жалкий червь, под исполненными ужаса взглядами своих товарищей, которые так любили его за веселый нрав.
Вот он делает мне какой-то знак: что он хочет? И почему именно мне? Может, думает, что я скорее пойму его?
Наклоняюсь над ним и приникаю ухом ко рту. Что он шепчет? О чем просит? Наконец я улавливаю смысл его слов.
— Неужто никто не согласится пристрелить меня?
— О чем он опрашивает? — любопытствуют вокруг.
Я отвечаю дрожащим голосом:
— Неужто, говорит, никто не согласится пристрелить меня?
Потом, тронув за плечо бай Стояна, вполголоса предупреждаю:
— Бай Стоян, будь осторожен, смотри не пей из фляги. Лучше кинь ее, она заразная.
Бай Стоян отцепляет флягу и со всей силы бросает за проволочные заграждения.
— Вот беда-то, — говорит он. — Не предупреди ты меня, я пил бы из нее как ни в чем не бывало.
Такова жизнь на позиции: что ни миг, то новая тревога. Двое санитаров уносят Лазара на носилках куда-то назад, в тыл.
Не позднее чем завтра, он будет уже трупом.
День прошел спокойно, если не считать случая с Лазаром Ливадийским. Это уже предательство, удар в спину. Перед нами один неприятель, позади — другой, еще коварнее, а между ними — голод, самый страшный враг, страшнее даже смерти.
Опять эта вареная кукуруза.
— Она прорастет у нас в брюхе, — грустно говорит бай Марин.
— Думаешь, в Болгарии так уж и вовсе хлеба нет? — вмешался другой солдат, ходивший босым потому, что сапог не хватало. — Есть, будь спокоен, да только уплывает куда-то с черного хода.
— А что они, у тебя, что ль, спрашиваться будут? — откликнулся третий. — Раз уж влезли мы в это дело, ничего теперь не поделаешь…
— А хоть и влезли, разве не можем вылезти? — неожиданно вставил бай Стоян и улыбнулся виноватой улыбкой, сам слегка смущенный своими словами.
Визг снарядов прервал приятную беседу.
Опять начинается! Ночь рождает страх и сомнения. Снова сиплый лай пулеметов, ружейные залпы с двух сторон разрезают воздух над этим крошечным клочком земли, где мы, укрывшись в окопах, подстерегаем друг друга, совсем как наши пещерные предки…
Мимо нас в сопровождении четырех взводных проходит командир роты. Они идут молча, лишь изредка обмениваясь скупыми словами. Видно, что-то не ладится.
Ротный хмурый, бледный, оброс щетиной, — у него вид человека, не спавшего много ночей. Говорят, он любит выпить, а в последнее время запил всерьез, — видимо, со зла и отчаяния. Да и как не запить, когда дело дошло до того, что и господам офицерам приходится довольствоваться вареной кукурузой…
Однажды, обругав каптенармуса за то, что тот привез плохой хлеб, он добавил:
— Передай этим тыловым ослам: я все кости им переломаю — пусть только попадутся мне в руки.
Он подымается на наблюдательный пункт и долго осматривает поле в бинокль. Солдаты перешептываются либо же многозначительно переглядываются, что должно означать: «Бог весть что еще нам готовится…» или: «Эх, не видать избавления!»
Бай Стоян Пыков заметил больше для смеху:
— Когда они в свои стекла глядят — тут уж добра не жди!
Все утро было тихо; да и сейчас, в тяжелый полуденный зной, ни один выстрел не нарушает тишины. Более того, просто невероятно: с лежащих впереди холмов доносится звон колокольчиков — там пасется стадо; усиленный эхом, он слышится совсем близко. Вот на камень прямо передо мной выскочила ящерица. Некоторое время она лежит недвижимо, греясь на солнце, затем начинает резвиться, весело снует взад и вперед, но, заметив меня, исчезает в своей норке.
Интересно, что делается там, у неприятеля? Такое затишье всегда подозрительно;—это затишье перед бурей.
Сербские позиции тоже не подают признаков жизни. Открытые и потому невыгодные, они расположены значительно ниже наших, теряясь где-то внизу, в поле. Наше расположение является господствующим, — этим объясняется упорное стремление выбить нас и отбросить назад.
Ящерица снова вползает на камень, и бай Стоян цедит сквозь зубы, мудро и многозначительно:
— Живая тварь… Радуется свету божьему.
— А мы, — добавляет бай Марин, — роем землю, как могильщики.
— Все судьбу свою ищем… Сами не знаем, чего ищем…
Так оно всегда и бывает: стоит только прийти в хорошее настроение, как обязательно что-нибудь случится и испортит его.
Весть, что унтер Илия Топалов заболел холерой, перелетает от солдата к солдату, словно раскаленный железный шар. Доброту Илии чувствовали на себе все; он не был кадровиком — до войны занимался книготорговлей, — но солдаты слушались его и любили. Он умел расположить к себе человека. Скажет, бывало:
— Захарий, сходи-ка засыпь отхожие места. Работа не из приятных, понимаю, но что делать?
И Захарий даже обижается:
— Да что вы, господин унтер, что значит — неприятная? Такова уж солдатская служба.
— Бедняга Илия… — тихо шепчет бай Стоян. — Где он сейчас, унесли его?
— И всегда на хорошего человека проклятая хворь нападет. Что бы ей фельдфебеля Запряна свалить? — откликается сосед справа. — Унесли, конечно, не станут держать здесь для развода.
Но как ни жаль нам Илию, мы думаем о себе — насколько мы вообще в состоянии думать, — что несет нам сегодняшняя ночь?
Ночь страшит нас: в темноте пробуждается ненависть и начинает выть голодным волком.
А ночь надвигается: за далекими горами садится солнце, поле погружается в тень.
Передают срочные приказания — одно за другим: всем подтянуться, проверить оружие, патроны… Нам ясно: затевается что-то нечистое.
На этот раз атака началась внезапно; часть неприятельской артиллерии открывает заградительный огонь, другая сыплет на окопы шрапнельным дождем, трещат пулеметы, гремит ружейная пальба — все виды оружия разом вступили в бой.
— Ну, теперь держись…
— О, боже! — вырывается у солдат: они крестятся, словно женщины на похоронах.
Всех охватывает тревога, солдаты прижимаются к брустверу, ждут…
Все исчезает: и прошлое, и родные, и села, и города, всякая мысль, желание, порыв, все человеческое, и сознание, и память — все исчезает, как камень, брошенный в бездонный омут… Что мы такое? Игрушка в руках слепых сил? Обреченные на заклание жертвы великой бессмыслицы?
Тянутся часы — медлительные, тяжелые, как из свинца. Ночь вся в движении — то проваливается куда-то, то снова обрушивается на тебя огромными толщами мрака, чтобы затравленной тигрицей распластаться над землей и ждать, ждать… Небо ясное, хотя звезды исчезли, будто кто-то мокрой тряпкой стер их с небосвода, как стирают пятна извести. Возможно, ночь ушла незаметно для нас, стекла в свое русло, чтобы сквозь горные ущелья просочиться на запад. Мы различаем уже лица друг друга, воспаленные, потемневшие…