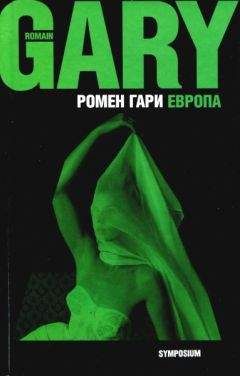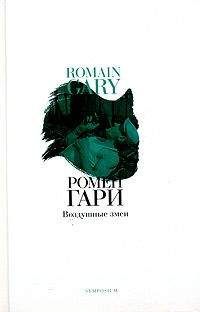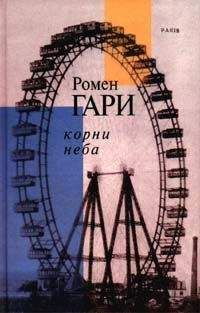Ромен Гари - Прощай, Гари Купер!
— Адольф Гитлер. Еще тот комик. Последнее средство, которое германские промышленники вытащили на свет Божий, чтобы попугать красных агитаторов. Через полгода о нем и думать забудут. Во всех посольствах так говорят.
— В любом случае Аристид Бриан прав. Современное оружие массового уничтожения сделало войну невозможной.
— К тому же народ отказался бы идти.
— Следует также признать, что писатели сыграли в этом не последнюю роль. «Огонь», «На Западном фронте без перемен», «Четыре пехотинца» развенчали войну раз и навсегда. Тем самым литература выполнила огромную историческую миссию. В золотой книге «Красной шапочки» эта старая кляча, маркиза де Суонси, написала когда-то: «Мы будем приходить сюда как можно чаще. Замечательно открыть для себя, что в мире есть еще что-то, кроме войн и голода».
Глава X
В стекло иллюминатора было видно, как метались чайки в молочно-сером тумане утра, которое все никак не хотело наступать, и слышались их пронзительные глупые крики: кажется всегда, что у них, у чаек, тяжело на сердце, тогда как крики эти вовсе ничего не значат, а эти ваши впечатления создаются исключительно вашей же психологией. Повсюду вам видится то, что на самом деле не существует, это все происходит внутри вас, вы становитесь чем-то вроде чревовещателя, который заставляет говорить окружающие предметы, чаек, небо, ветер, словом — всё. Вы слышите, как кричит осел, он совершенно счастлив, как могут быть счастливы только ослы, но вы почему-то говорите себе: «Боже, какой он грустный», они разбивают вам сердце, эти ослиные крики, но лишь потому, что настоящий осел — это вы. Теперь же вы цепляетесь к чайкам. Единственное, что означают их душераздирающие крики, это то, что где-то открылся сток отбросов, они просто сообщают друг другу хорошую новость. Все это лишь обман зрения. То есть не зрения, в общем, вы понимаете, что я хочу сказать. Вы поднимаетесь на вершину Шайдегга, ночью, смотрите на звезды и чувствуете себя на седьмом небе, совсем рядом к чему-то или кому-то; но звезды, они даже не здесь, это какие-то почтовые открытки, которые приходят к вам неизвестно откуда, свет пришпилил их миллионы лет назад, и для вас они существуют только благодаря научному прогрессу. Вы восхищаетесь, стоя на своих лыжах, опершись на палки, но там, наверху, ничего нет, это все опять-таки внутри вас. Наука — опасная игрушка. Она заряжается всем, чем попало. Пиф-паф! И ничего не осталось. Тогда вы будите своего чревовещателя и заставляете все вокруг говорить: тишину, небо, чаек. Он лежал, растянувшись на койке, скрестив руки на затылке. Койка была очень узкая, места хватало едва на одного — очень удобно. Девчонка прижалась к нему вплотную. Хорошая койка. Девчонка была совершенно голая и совершенно отсутствующая — она была там, где хорошо, — так всегда происходит, когда по-настоящему занимаешься любовью. Они были так близки друг к другу, что уже не различали, кто — где. Их было двое, то есть каждый был другим: ее груди были твоими, а твой живот — ее. Каждый был на месте другого. И вдвойне хорошо было оттого, что она молчала, эта девчонка умела с тобой разговаривать. Очень трудно бывает вместе молчать, надо, чтобы у вас и правда было что сказать друг другу. Тогда все говорится само собой, без вашего участия. Когда дышишь словами себе в лицо, получается как с чайками: все это означает лишь, что где-то есть сток, спасибо за информацию. Впервые девушка так замечательно говорила с ним, не раскрывая рта, он понимал всё. Он гладил ее волосы, тихонько, чтобы передать, что он все слышит, все понимает. И ее волосы — это невероятно — были чем-то таким естественным, сами по себе, как будто и не на человеческой голове.
Она еще сильнее прижалась к нему, прильнув щекой к его плечу: от этого вам хочется послать все к черту, все остальное, я хочу сказать, ничего лучше и не придумаешь. Я этого не забуду, Джесс. Даже зимой, когда повсюду будет снег, настоящий, я не забуду. Жаль, что мы не встретились где-нибудь в другом месте, я и ты. Где-то совсем далеко отсюда, ты понимаешь? Где все могло бы сложиться иначе. Не так, как здесь.
— Как они кричат, эти чайки, — сказала она.
— Когда я был маленьким, у нас был осел, который кричал точно так же. Грустно, я хочу сказать. В конце концов я понял, что это я сам грустно кричал, а не он.
— Ты любишь животных?
— Люблю — это сильно сказано. Но что-то похожее, да.
— Как это «что-то похожее»?
— Как будто это ты, а не кто-то другой. Особенно собаки: глядя на них, думаешь, что это на всю жизнь. Но только не кошки. Был у меня один котяра, форменная свинья. Каждый раз, как ты пытался его погладить, он начинал царапаться. Он не любил, чтобы подходили слишком близко.
— Его случайно не Ленни звали, кота твоего?
— Я так никогда и не узнал, как его звали. А между прочим, он у меня появился, когда еще на лапах не держался. Я пробовал звать его Чарли, и Питером, и Бадом, но он никогда не откликался. Он выгибал спину, хвост трубой, и удирал, только его и видели. Ты никогда не знаешь их настоящего имени. Просто так они не даются.
— Ленни?
— Да?
— Кто тебе это сделал?
— Что? Как? Я не понимаю, что ты хочешь сказать.
— Целая часть тебя была убита. Черт, а нам так хорошо было вместе.
— Никто ничего мне не делал, Джесс. Я никого никогда так близко не подпускал. И я никогда нигде долго не задерживаюсь. Если только вокруг никого нет.
— Понятно.
— Я знаю одного парня в Церматте, который говорит: «Здесь все не так. Нужно изменить мир. Нужно собраться всем вместе и изменить мир». Но если бы мы могли собраться все вместе, то и мир не нужно было бы менять. Он стал бы тогда совершенно другим. Когда ты один, ты можешь что-то сделать. Ты можешь изменить свой собственный мир, но не мир других.
За всем этим проходила невидимая граница. Разжечь огонь, оседлать своего коня, забить свою дичь, построить свой дом. Нечего уже было решать. Все решения были приняты раньше. Не было ничего своего. Вы занимали какое-то место и входили в оборот. Ваша жизнь становилась просто жетоном, вы были жетоном, который катился в разменный автомат. Ну, давайте, вставьте монетку. Insert one.
Он был так красив. Тонкие черты, блестящие волосы, сильный подбородок и темно-зеленые глаза в обрамлении длинных ресниц, похожие на загадочные пруды. А когда он улыбался, это было таким откровением, будто его чертов кот сам говорил вам свое имя.
— Нужно, чтобы дальше что-то было. Как в горах. Ты смотришь вдаль, а видишь что-то другое. Здесь же ты смотришь вдаль: ничего нет. Вечно один и тот же мир, даже если он говорит тебе, что он другой.
— Нет другого мира.
— Именно, другого мира нет… — Он засомневался. — Нет. Все-таки есть один парень, которому это удалось. Чарли Паркер. Однажды он сказал себе: «Я построю другой мир», взял трубу и стал играть.
Она сдерживалась, стараясь не погладить его по волосам. По-матерински. У нее была предрасположенность к матриархату, она это прекрасно знала.
— Ленни, у тебя есть семья?
— Нет, спасибо.
— Никого-никого?
— Я бы так не сказал. Уверен, если бы я нанял частного детектива, он в конце концов все-таки отыскал бы где-нибудь мою мамочку. Отец погиб в одной из тех стран, которые даже не существуют. То есть я имею в виду, что они появляются, только когда там погибают люди. География, одним словом. Мой отец погиб за географию. — Он рассмеялся. — Возьми, к примеру, Вьетнам. Раньше мы даже не знали, что есть такой. А теперь Америка в нем утонула. А Корея? В один прекрасный день получаешь какую-нибудь вшивую бумажку: ваш отец или сын погиб в Корее. Бежишь смотреть карту… В Америке именно так изучают географию. Раньше она никому и не нужна была. Когда они каждый день с экрана телевизора начинают клеить тебе новую марку какой-нибудь страны, это значит, что не нужно покупать, ни в коем случае, и лучше даже слинять куда подальше оттуда. Но мой отец был в армии. Сам полез на рожон.
— Его убили во Вьетнаме?
— Нет, он нашел кое-что получше. Говорю тебе, раньше этого даже не существовало. Хаос. Таос. Что-то в этом роде.
— Лаос?
— Точно. Ты знаешь?
— Нет.
— Я тоже не знал. А теперь вот знаю. Да, Лаос. Как-то я пытался сам вспомнить и не смог. А у тебя, думаю, есть отец.
— Да.
— И… как?
— Ничего. Он замолчал, уставившись в потолок.
— Он подорвался на мине. Все эти страны заминированы. — Она крепко обняла его, и он напрягся. — Поделим пополам. Шесть тысяч — тебе, шесть — мне. Потом разбежимся в разные стороны. Не беспокойся. Я не из тех, что липнут как банный лист. Ты больше меня не увидишь.
— Я еще не совсем готова, Ленни.
— Насчет этого дела?
— Нет. Больше тебя не увидеть. Он тихонько рассмеялся.
— Что ты смеешься?
— Я не могу.
— Что?
— Бывают моменты, когда я хочу сказать: «Джесс, я люблю тебя», но я не могу. Мне начинает казаться, что они все здесь и врут, кто во что горазд. Как будто раздаешь обещания избирателям.