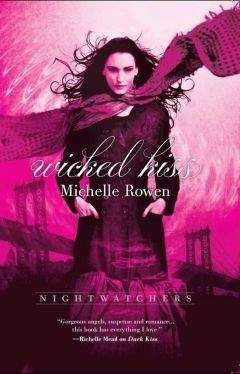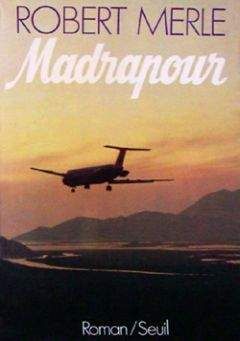Фёдор Степун - Николай Переслегин
Всего этого я сейчас не чувствую, но в голове эти мысли все же вертятся. Моя голова — самый постылый мой демон, самый живучий мой враг. Хорошо жить людям с холодными, умными головами, с регуляторами сердца на плечах.
У меня не так. У меня все страсти и все безумие в голове. У меня, можно сказать, очень сердечная голова.
Ну, родная, кончаю. 4 часа утра, играет пастух, выгоняют стадо... Надо ложиться. Целую Тебя, мою милую, быть может только что тихо заснувшую на своей тахте под открытым окном. Целую руки Твои.
Твой Николай.
Сельцы, 8-го августа 1911 г.
Милая, родная, бедная Ты моя Наташа. Вчера отослал Тебе письмо; в нем с таким креп-
192
ким чувством нашего счастья, так безответственно весело развивал Тебе мою теорию об измене внутри верности, об измене Тебе с Тобою, писал всякую ерунду о Любови Ивановне, а сегодня получил Твое, такое совсем иное по своему настроению, такое какое-то над чем-то остановившееся, такое грустное письмо.
Очень, очень мне жаль и больно и досадно, что нельзя вернуть вчерашнего болтливого письма, что нельзя послать вместо него другое, и главное, что я так не понял и не учел того, как должны были лечь на Твою душу все мои последние письма; главное, конечно — Алеша.
Право же, Ты напрасно так печалишься о том, что Алеша повернулся ко мне не только глубокою скорбью, но и темною злобой и что наши отношения попали в такой безысходный тупик. Я много думал все эти дни над этим поворотом и, кажется, понял, что иначе Алеше нельзя было ко мне повернуться. Нельзя не только в смысле простой психологической естественности, но и глубже: — в смысле оздоровления всей его внутренней жизни. Понять, что Твой уход от него не зло, но истина, что во всем случившемся никто не виноват — это ему сейчас не под силу. Но если уже быть кому ни будь виноватым, то кому же, как не мне? Не ему же? Придти к заключению, что сам взорвал свою жизнь, этого сердцу не вынести.
И не Тебе же? В спасении правды и красоты Твоего образа весь смысл и пафос его тепереш-
193
ней борьбы. Ведь Ты и уйдя от него осталась всей его жизнью. Выход только один — взвалить всю вину на меня. Превратить меня в мелкого обольстителя, умело обошедшего всеми правдами и неправдами Твою невинную душу. Такое понимание, быть может, единственное, которое, разрушая Алешино будущее, не разрушает тем самым его прошлого; обрубая ветви его жизни, не подрубает её корней.
С таким Алешиным отношением ко мне я внутренне уже примирился родная. Прежнего это мое примирение, конечно, не восстановит, но мне от него все таки легче; пусть же будет легче и Тебе. Если озлобленным искажением моего поведения Алеша спасет сейчас свою жизнь, то не нам же с Тобою ему доказывать, что он ошибается. Пусть ошибается. Когда ошибка эта перестанет быть ему жизненно необходимой, он сам первый откажется от неё. Конечно, лежать мостом под ногами у человека — дело не легкое, даже и сознавая, что переносишь его через бездну. Отсюда и вся моя «закидка» в последнем письме об Алеше. Но сейчас у меня уже отлегло от сердца. Не печалься же слишком и Ты. Тебе легче понять Алешу, чем мне, хотя бы уже потому, что для Тебя ревность не только понятное, но и священное чувство, а ведь в конце Концов её одной достаточно, чтобы принять наш разрыв.
Но знаешь ли что, радость моя, слышится мне, что печаль Твоего письма не только о том, что я писал Тебе об Алеше, но и о чем-то ином. Дай
194
Тебя смутило известие о приезде Марины и содержание её письма.
Своим смущением Ты ставишь мне очень большие вопросы. Будем же до конца откровенны друг с другом.
По приезде в Москву из Европы, я был так ошеломлен Твоим явлением мне, и жизнь наша сразу же окрылилась таким бешеным темпом, что не было у нас времени рассматривать налетевшую на нас бурю и уговариваться друг с другом о том, чего ждать нам от неё и чего в ней страшиться.
Только раз, в самом начале, еще до первой зарницы в Твоих глазах, до первых глухих раскатов в моей крови, вдруг завертевших для нас весь мир вокруг первого поцелуя, говорили мы с Тобою о сущности любви и почему её сущность трагична. Было это в связи с моим рассказом о Вильне, о Марине и с моею попыткой дать Тебе почувствовать то, что я знаю в себе, как яд и мелодизм безлюбого любовного соблазна. «Мы говорили», впрочем неточно, говорил я один; Ты же только очень внимательно слушала, но ничего не оспаривала, и ни на что не отвечала. Тогда я над этою, мне очень привычною, безответностью не остановил ни своего раздумья, ни даже своего внимания. Но вчера, когда читал и перечитывал Твое письмо, такое сосредоточенное и в своей неожиданной грусти такое самостоятельное, я понял, что не отвечала Ты мне не потому, что была со мною согласна и не по-
195
тому, что несогласие Твое не имело ответа. Нет, ответ у Тебя был, ответ у Тебя есть и ответ настолько определенный, что, знаю, мне не легко будет не то чтобы его сломить, этого не хочу я, милая, — но хотя бы только сочетать с моими навыками и жить, и чувствовать, и думать, и двигаться в любви.
Через две недели в любимом моем «Цеми» мы с Тобою обо всем этом говорить не будем. Через две недели в глиняном домике Твоего стрелочника-осетина расцветет рай, самый настоящий, с первозданным небом над первозданною землей; рай, по которому мы будем бродить, еще чувствуя на теле теплое прикосновение только что создавших нас Божьих перстов, в котором все образы мира будут склонять перед нами свои головы, ожидая от нас своего наречения именем нашей любви. Но если так будет, потому что так уже было и так есть, то откуда же грусть Твоего письма и откуда и о чем немой вопрос этой грусти?
От ревности он, Наташа, и о ревности он, и спрашивает он меня о том — встретится ли нам в нашем раю среди цветов, дерев под райскими звездами также и женщина и наречем ли мы и ее именем нашей любви.
Большая надежда моей усталости и моей жажды счастья — что не увидим; но эта надежда вся на Тебя и на чудо. В том же, как мне до сих пор дано было жить в любви, любить любовь и
196
постигать ее, такая встреча для нас почти неизбежна.
Мне не легко писать Тебе об этом, Наташа, я чувствую, как жестока моя искренность, но не отрекаться же мне от неё во имя жалости! В любви искренность всегда выше жалости: — искренность только убивает, жалость лжет. Для меня нет потому выбора. О, во сколько же раз благороднее убить любовью свою и чужую жизнь. чем допустить чтобы жизнь, этот тайный шулер, обыграла любовь!
А потому, родная, прими мою исповедь. Не знаю, почему, вероятно потому, что у каждого из нас одна мать и одна смерть, но единство явно является высшим требованием нашего духа, где бы он ни дышал. Дух требует единства, но мир противостоит духу и восстаёт на него неисчислимым многообразием своих обликов.
В этой противоположности причина того, почему человеческое познание — вечная борьба между духом и миром, единством и множественностью, цельностью души и её богатством, почему человеческое творчество всюду и всегда трагедия и раздвоение.
На своих вершинах любовь: и творчество и познание. Потому и её трагедия все та же исконная трагедия всякого человеческого гнозиса — раздвоение.
Ты для меня сейчас не только все в мире, Ты для меня весь мир. Только в Тебе я целостен и только в Тебе мир для меня един.
197
Только в Тебе я познаю себя и только в себе, Тобою созданном — мир. Иначе я сейчас Бог, чтобы это было не так, но я уверен, что не могу. Но в том, что не могу иначе, не только моя правда перед любовью, но и неправда моей любви перед миром. Ибо для меня — весь мир, Ты для мира все же лишь часть его.
Любить весь мир только в Тебе значит против многого восставать и от многого отрекаться, как в мире, так и в себе.
Во всякой любви неизбежен потому час, в который ею отверженный мир начнет восставать на нее.
Сначала мне будет мало любви: Тобою во мне отвергнутый мир начнет восставать на Тебя мужскою моею жаждою творчества и мужскою моею жаждою одиночества. Но этими силами никогда ему с моею любовью к Тебе, конечно, не справиться. Все высланное против Твоей любви Ты, с гениальностью свойственной только женщине, будешь превращать в высокий купол над нашей любовью: в её славу и её отклик. Тогда Тобою отвергнутый во мне мир восстанет на Тебя своею новою силою: не жаждою творчества и одиночества, но жаждою другой женщины, и покажется мне, что мне мало не только любви, но в любви мало Тебя.
Уже сейчас думать и писать обо всем этом не только жестокость, но и безумие, сплошное, последнее... Но так именно и надо, Наташа. Если что может спасти любовь от смерти, то только бе-
198
зумие. Не буреносное безумие страстей, его одного мало, а систематическое безумие всей жизни в любви, всех чувств и мыслей о ней.