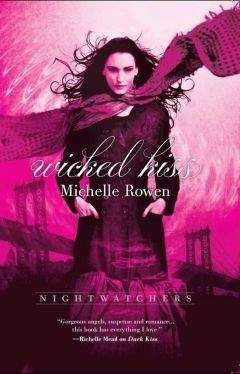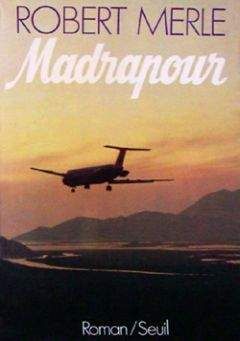Фёдор Степун - Николай Переслегин
185
чивался флагами, розетками и пальметами.
Уверен, что слухи о моей организационно-художественной деятельности и о моих ежедневных поездках с Любовью Ивановной уже давно дошли до Алеши, и живо представляю себе, какою они наполнили его обидой, каким презрением ко мне, какою жалостью к Тебе. И действительно, если посмотреть со стороны, да еще недоброжелательным взором, то получается картина более чем пошлая. Разбить жизнь ближайшего друга, взять у него бесконечно любимую жену и, пользуясь её отсутствием, тут же, на его глазах начать волочиться за какой-то напудренной, замусоленной, много романной барынькой — ну разве может быть что-нибудь более подлое и безвкусное!
Уверен, родная, что объяснять свое поведение мне Тебе не приходится и оправдываться перед Тобою мне тоже излишне. Но, конечно не потому, что все понять — все простить, а потому что ни понимать, ни прощать — нечего. Алешу же мне очень жаль. Приди мне несколько раньше в голову, что мое времяпрепровождение может стать для него источником мучений, я, конечно, оказал бы большее сопротивление натиску Любови Ивановны. Но что делать — не пришло! Я очень хорошо умею смотреть на себя со стороны, но очень плохо — смотреть на себя чужими глазами, хотя бы и столь хорошо известными мне, как Алешины.
Помнишь, Алешу и раньше всегда коробила стилистика моего отношения к женщине. Ему все-
186
гда казалось, что по существу и сама в себе всякая женщина — только человек; женщина же в женщине — её темная и принижающая встреча с мужчиной. Я всей этой благородно-идейной точки зрения никогда не принимал и мне всегда казалось, что все это так для нравственно честных, но артистически бездарных мужчин, инстинктивно понимающих, что своей земнородной чувственности им никогда не окрылить звездными далями небесного эроса. Для меня женщина — прекрасное превышение человека. Относиться поэтому к женщине просто, как к человеку — то же самое, что не замечать поэта в Пушкине. Если бы в час воскресения из мертвых небо вернуло мне Тебя не женщиной, а человеком — это было бы злою насмешкой над моей верой в бессмертие. Но все это, конечно, не значит, что я не способен на беспроблемную дружбу с женщиной.
Я очень люблю умные, дружеские отношения между мужчинами, которые, конечно же, ощущаю не общечеловеческими, а специфически мужскими (в России их мало, страна гениальная в любви, Россия бездарна в дружбе). Но разве это что-нибудь говорит о моей эротической ненормальности? Совершенно так же ничего не говорит о чувственном влечении ко всем женщинам мое живое ощущение всего женского: женского склада ума и тембра женской души, нерва женского темперамента и методов женского кокетства.
Относиться к Любови Ивановне, как к человеку, было бы делом совершенно фантастиче-
187
ским; не менее фантастическим было бы, впрочем, и отношение к ней, как к женскому уму, душе и темпераменту, ибо Любовь Ивановна Синицына, по сцене Черкасская, не только не человек, но и не женщина, а всего типичная барынька, которых в провинции очень много, и которые все на один фасон. Все они любят пеньюары, капоты, пёстрые татарские туфли и татуировку (сердце, пронзенное стрелой) на руках своих воздыхателей. У всех у них в гостиных горят лампы под красными абажурами, а на руках кровавые рубины. Все они со страстью терзают в своих цыганствующих носоглотках Панинские романсы, все высоко вскидывают над клавишами аккомпанирующие руки, обязательно страстно глядя при этом в какой-нибудь темный угол, где ответно попыхивают и подрыгивают красноголовые папиросы... При всей своей романтике, они, однако, очень расчетливы, и я не думаю, чтобы какая-нибудь страсть к поручику или штабс-капитану могла той же Любовь Ивановне помешать своевременно превратиться в подполковницу, а потом столь же своевременно и в генеральшу.
Однако, Бог с ней, с Любовью Ивановной; и с чего это только она привязалась ко мне. И так целыми днями возишься с ней..
Сейчас тихая ночь, на столе тихая лампа, за дверью на дворе фыркает лошадь и пожевывают коровы, мы с Тобою вдвоем, а я опять с чего-то о романсах, рубинах и всякой ерунде. А все Алеша! Ударила меня сегодня по голове мысль,
188
как бы ему не привиделось, что я «увлекаю» Любовь Ивановну, а то и сам увлекаюсь ею. Стало от этой мысли и очень грустно и очень больно; стало бесконечно жаль Алешу, но одновременно поднялась в душе и досада: и на него — неужели может подумать, и на себя — зачем связался с этим праздником. Так и написал это, совсем какое-то не то письмо.
О главном же и не написал. Главное то. родная, что нашему свиданию грозит отсрочка на две недели. Ходят слухи, что после лагерного сбора наш дивизион примет участие в маневрах. Пока я об этом не думаю и Ты не думай. Ведь думать — значит накликать. Пока я твердо держусь веры, что 16-го, т. е. через десять дней, я покину лагерь и, пробыв в Москве не больше двух дней, помчусь на Кавказ.
Владикавказ; Военно-Грузинская дорога на автомобиле; Тифлис, в нем эта глупая, последняя, пустая ночь, почти рядом с Тобою; на следующее утро Боржом — в Боржоме Ты. Потом с Тобою на маленьком поезде в горы, к нам, в Цеми, в Твою комнату, в Твои объятья! Господи, как жду я этого святого часа... Пробудем мы с Тобою на Кавказе, думается мне месяца два.
А потом, не задерживаясь в Москве, проедем прямо к отцу, на Оку. Он нам не будет мешать: он чудесный чудак, а мы привезем ему в дом нашу чудесную любовь, и мы прекрасно поймем друг друга.
189
В двухсветном зале нашего дома будут ночи, каких Ты нигде не видала — совершенно фантастические. Лунного света столько, что кажется он льется не с неба, а прямо из баллады Бюргера или Жуковского. Главное: — нет того чувства, что ночь за окном, а ты в доме. Сидишь у камина и кажется, что стереоскопически-чёткие, старые, приземистые, ветвистые яблони, похожие под снегом на какие-то гигантские голубые кораллы, стоят не за окном, а в комнате. Подыми только руку — и они осыпятся тебе прямо на голову...
После зимы наступит весна. Это Тебе, впрочем, известно. Но что Тебе совершенно не известно, это то, до чего Ты будешь прекрасна на маленьком нашем, часам к 10-ти утра уже совершенно тенистом балконе, в светлом платье, среди белой сирени, с тою утренней росною прохладой в теле и в ясных, спокойных, детских Твоих глазах, что впервые так пленила меня в то майское утро в Луневе, когда в голубой своей шали Ты подошла ко мне у калитки Вашего сада!...
Но знаешь, Наташа, как бы Ты ни была хороша весною и летом, в первые настоящие, глубоко-осенние дни (окна уже вставлены и замазаны, печки топятся выдержанными зимними дровами, в передней пахнет нафталином, и Ефим с почты въезжает во двор в кожане, на забрызганной грязью лошади с коротко подвязанным хвостом) — в первые осенние дни Ты снова похоро-
190
шеешь, так как снова станешь совсем иной: из летней превратишься в осеннюю; Ты побледнеешь, потому что с лица и рук совсем сойдет загар, вырастешь и станешь стройнее, потому что осенние платья темнее, а зимние каблуки хотя бы на один сантиметр выше летних.
Оттого что осенью Ты будешь больше и сосредоточеннее играть, чем играла летом — певучее станут Твои движенья и глаза; оттого что осенью чаще будешь читать Пушкина, (разве не ясно, что Гоголя надо читать летом, а Пушкина осенью), станешь ясною, сосредоточенною и мудрою, как Пушкинский октябрь..
Все эти перемены произойдут не только в Тебе для меня, но и во мне для Тебя. Оттого, что станем мы осенью друг другу иными и новыми, иною и новою станет и наша любовь. А обновление любви нас крепче привяжет друг к другу.
Господи, до чего Таня как-то смеялась, когда я пытался ей доказать, что в моем представлении я по осени, сняв пальто и надев шубу, хорошею ровно настолько, насколько весною, сняв шубу и надев пальто, хотя бы шуба и была очень хорошая, а пальто совсем дрянное.
Сейчас я бесконечно счастлив, радость моя: все мои, Тобою покоренные демоны, не то отлетели от души, не то такими беспомощными котятами свернулись где-то на дне её, что мне их не видно и не слышно, легко над ними шутить и совершенно невозможно серьезно с ними считаться.
191
Но все же скажи, разве в моем наблюдении над каждому известною радостью переоблачения в октябре и апреле совсем не страшна эта вечная тоска человека по вечно новому и иному в себе? И разве совсем не страшна моя предвкушаемая страсть к Твоему зимнему, летнему и снова осеннему образу? Разве все это не значит, что даже самая верная любовь живет изменой, хотя бы только изменой себе самому с самим собою, друг другу с друг другом, своей весенней любви со своею осеннею влюбленностью?
Всего этого я сейчас не чувствую, но в голове эти мысли все же вертятся. Моя голова — самый постылый мой демон, самый живучий мой враг. Хорошо жить людям с холодными, умными головами, с регуляторами сердца на плечах.