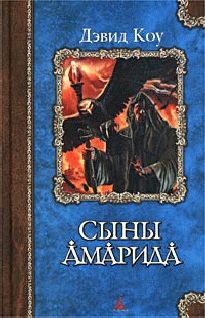Уильям Моэм - Бремя страстей человеческих
— Читайте эту книгу ради стиля, а не ради содержания, — сказал Хейуорд.
Он восторгался музыкой ораторианцев[18] и высказывал остроумные догадки о связи между набожностью и ладаном. Уикс слушал его с ледяной улыбкой.
— Вы думаете, если Джон-Генри Ньюмен хорошо писал по-английски, а кардинал Мэннинг обладал представительной внешностью, это доказывает правоту католической религии? — спросил он.
Хейуорд намекнул, что вопросы веры стоили ему немало душевных мук. Целый год он блуждал в беспросветном мраке. Проведя рукой по своим светлым вьющимся волосам, он заявил, что даже за пятьсот фунтов стерлингов не согласился бы снова пережить такую моральную пытку. К счастью, он наконец обрел покой.
— Но во что же вы верите? — спросил Филип, которого никогда не удовлетворяли туманные намеки.
— Я верю в Здоровье, Пользу и Красоту, — с важным видом изрек Хейуорд; его крупное, ладное тело и гордо посаженная голова выглядели очень картинно.
— Так вы и определили бы вашу религию во время переписи? — мягко осведомился Уикс.
— Ненавижу точные определения: они так безобразно прямолинейны. Если хотите, я могу сказать, что моя религия — это религия герцога Веллингтона и мистера Гладстона.
— Но это же и есть англиканская церковь, — вставил Филип.
— О мудрый юноша! — возразил Хейуорд с улыбкой, заставившей Филипа покраснеть: тот почувствовал, что сказал пошлость, выразив обыденными словами сложную метафору собеседника. — Да, я принадлежу к англиканской церкви. Но я люблю золото и шелка, в которые облачен католический священник, меня привлекают обет безбрачия, исповедальня и чистилище; в таинственном полумраке итальянского собора, пропитанном ладаном, я всей душой верю в таинство пресуществления. В Венеции я видел одну рыбачку — она босиком вошла в церковь и упала на колени перед мадонной; бросив корзину с рыбой, она стала молиться; да, вот это была подлинная вера, и я молился и верил вместе с этой женщиной. Но я верю также и в Афродиту, и в Аполлона, и в великого бога Пана.
У Хейуорда был бархатный голос; он говорил, выбирая слова и словно скандируя. Он бы говорил еще, но Уикс откупорил вторую бутылку пива.
— Выпейте лучше, — сказал он.
Хейуорд обратился к Филипу с тем слегка снисходительным жестом, который производил неотразимое впечатление на юношу.
— Теперь вы удовлетворены? — спросил он.
Сбитый с толку, Филип признал, что он удовлетворен.
— Жаль, что вы не добавили сюда немножечко буддизма, — сказал Уикс. — Сам я, сознаюсь, испытываю некую склонность к Магомету; обидно, что вы его обошли.
Хейуорд рассмеялся; в тот вечер он был настроен благодушно, отзвук округлых фраз все еще приятно отдавался у него в ушах. Он опорожнил свои стакан.
— Я и не ожидал, что вы меня поймете, — ответил он. — Вы с вашим холодным американским рассудком можете меня только осудить. Вы ведь бредите Эмерсоном и тому подобное. Но что такое осуждение? Это чисто разрушительное начало; разрушать может каждый, но не каждый может созидать. Вы, дорогой мой, педант. Созидание — вот что важнее всего, а я — созидатель, я — поэт.
Уикс глядел на Хейуорда как будто серьезно, но глаза его весело смеялись.
— Не обижайтесь, но мне кажется, что вы чуть-чуть опьянели.
— Самую малость, — бодро ответил Хейуорд. — Далеко не достаточно для того, чтобы вы могли победить меня в споре. Но, послушайте, я раскрыл вам свое сердце; теперь скажите, в чем ваша вера.
Уикс склонил голову набок, словно воробей на жердочке.
— Я раздумываю об этом уже много лет. Кажется, я — унитарий[19].
— Но ведь они же сектанты, — сказал Филип.
Он так и не понял, почему оба они расхохотались — Хейуорд раскатисто, а Уикс, потешно пофыркивая.
— А в Англии сектантов не считают джентльменами? — спросил Уикс.
— Что же, если вы спросите моего мнения, они и в самом деле не джентльмены, — сердито ответил Филип.
Он терпеть не мог, когда над ним смеялись, а они засмеялись снова.
— А вы мне объясните, пожалуйста, что такое джентльмен, — спросил Уикс.
— Ну, как вам сказать… кто же этого не знает?
— Ну, вот вы — джентльмен?
На этот счет у Филипа никогда не было сомнений, но он знал, что о себе так говорить не полагается.
— Если кто-нибудь сам называет себя джентльменом, можно держать пари, что он им никогда не был, — возразил он.
— А я джентльмен?
Правдивость мешала Филипу прямо ответить на этот вопрос, но он был от природы вежлив.
— Вы совсем другое дело, — сказал он. — Вы же американец.
— Значит, мы пришли к выводу, что джентльменами могут быть только англичане? — совершенно серьезно произнес Уикс.
Филип не стал возражать.
— А вы не можете мне назвать еще какие-нибудь отличительные признаки джентльмена? — спросил Уикс.
Филип покраснел, но, все больше сердясь, уже не думал о том, что выставляет себя на посмешище.
— Могу назвать их сколько угодно. — «Нужно три поколения, чтобы создать одного джентльмена», — говорил его дядя; это было его любимой поговоркой, так же как и «не суйся с суконным рылом в калашный ряд». — Во-первых, для этого надо быть сыном джентльмена, затем надо окончить одно из закрытых учебных заведений, а потом Оксфорд или Кембридж…
— Эдинбургский университет, верно, не подойдет? — ввернул Уикс.
— И еще для этого надо говорить по-английски, как джентльмен, и одеваться как следует, и уметь отличать джентльмена от не-джентльмена…
Чем дальше Филип говорил, тем менее убедительным все это казалось ему самому, но ничего не поделаешь: именно это он и подразумевал под словом «джентльмен», да и все, кого он знал, подразумевали под этим словом то же самое.
— Теперь мне ясно, что я не джентльмен, — сказал Уикс. — Непонятно, почему же вы так удивились, что я сектант.
— Я плохо себе представляю, что такое унитарий, — сказал Филип.
Уикс по привычке снова склонил голову набок: казалось, он вот-вот зачирикает.
— Унитарий совсем не верит в то, во что верят другие, зато он горячо верит неизвестно во что.
— Зачем вы надо мной смеетесь? — спросил Филип. — Мне в самом деле хотелось бы знать, что такое унитарий.
— Дорогой друг, я вовсе над вами не смеюсь. Я пришел к этому определению после долгих лет упорного труда и напряженных, мучительных раздумий.
Когда Филип и Хейуорд встали, чтобы разойтись по своим комнатам, Уикс протянул Филипу небольшую книгу в бумажной обложке.
— Вы, кажется, уже бегло читаете по-французски. Надеюсь, это вам доставит удовольствие.
Филип поблагодарил и, взяв книгу, посмотрел на ее заглавие. Это была «Жизнь Иисуса» Ренана.
28
Ни Хейуорду, ни Уиксу и в голову не приходило, что беседы, помогавшие им скоротать вечер, служили потом Филипу пищей для бесконечных размышлений. Он раньше и не подозревал, что религия может стать предметом обсуждения. Для него религия — это англиканская церковь, а неверие в ее догматы свидетельствовало о непокорности, за которую полагалась неизбежная кара — либо здесь, либо на том свете. Он, правда, питал кое-какие сомнения насчет наказания неверных. Не исключена была возможность, что всевышний судия, ввергнув в геенну огненную язычников — магометан, буддистов и прочих, — смилостивится над сектантами и католиками (зато как они будут унижены, поняв свои заблуждения!); допустимо было, что он окажет милосердие и тем, кто не имел возможности познать истину, хотя миссионерские общества развернули такую деятельность, что мало кто мог сослаться на свое невежество. Но, если у человека была возможность приобщиться к истинной вере и он ею пренебрег (а к этой категории все же принадлежали и католики и сектанты), — тогда кара была неизбежной и заслуженной. Еретик явно был в незавидном положении. Может быть, Филипа и не учили всему этому дословно, но ему внушили убеждение, что только последователи англиканской церкви могут питать твердую надежду на вечное блаженство.
И, уж во всяком случае, Филипу говорили не таясь, что всякий неверующий
— человек злой и порочный. А Уикс, хотя и вряд ли верил в то, во что верил Филип, вел непорочную жизнь истинного христианина. Филип редко чувствовал к себе участие, и его трогала готовность американца протянуть ему руку помощи; однажды, когда Филип простудился и три дня пролежал в постели, Уикс ухаживал за ним, как родная мать. В нем не было ни злобы, ни пороков, а одна лишь душевность и доброта сердечная. Значит, можно было быть добродетельным и в то же время неверующим.
Филипу внушали, что люди исповедуют другие религии из чистого упрямства или же из корысти: в душе своей они знают, что вера их — ложная, но умышленно пытаются совратить других. Изучая немецкий язык, он в воскресные дни посещал лютеранские богослужения, а после приезда Хейуорда стал ходить вместе с ним к обедне. Филип заметил, что протестантская церковь всегда пустовала и ее прихожане слушали богослужение с рассеянным видом, зато католический храм был переполнен и паства, казалось, молилась от всей души. И она вовсе не походила на сборище лицемеров. Это его удивляло: ведь он твердо знал, что лютеране, чья религия сродни англиканской, были ближе к истине, чем католики. Большинство католиков — среди них преобладали мужчины — были уроженцами Южной Германии; Филип вынужден был признать, что, родись он сам в Южной Германии, он тоже, наверно, был бы католиком. А ведь он легко мог родиться в католической стране, а не в Англии; да и в Англии он мог бы появиться на свет в баптистской или методистской семье, а не в семействе, которое, к счастью, принадлежало к государственной церкви. У него даже дух захватывало, когда он думал об опасности, которой так счастливо избежал. Филип сдружился с маленьким китайцем, с которым дважды в день сидел за столом. Его звали Сун. Он постоянно улыбался, был приветлив и вежлив. Странно было подумать, что ему суждено жариться в аду только потому, что он китаец. Если же спасение было возможно независимо от того, к какой религии человек принадлежит, в чем тогда преимущество англиканской церкви?