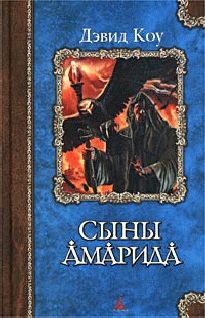Уильям Моэм - Бремя страстей человеческих
Хейуорд обладал редкостным даром. Он по-настоящему любил литературу и с удивительным красноречием умел заражать других своей страстью. Он мог увлечься каким-нибудь писателем, увидев все его лучшие стороны, и говорить о нем проникновенно. Филип много читал, но читал без разбору — все, что попадалось под руку, и теперь ему было полезно встретить человека, который мог развить его вкус. Он стал брать книги из маленькой городской библиотеки и читать все замечательные произведения, о которых говорил ему Хейуорд. Не всегда они доставляли ему удовольствие, но Филип читал с упорством. Он стремился к самоусовершенствованию и чувствовал себя невежественным и малоразвитым. К концу августа, когда Уикс вернулся из Южной Германии, Филип уже целиком подпал под влияние Хейуорда. Тому не нравился Уикс. Его шокировали черный пиджак и темно-серые брюки американца, и он презрительно пожимал плечами, говоря о его пуританской закваске. Филип спокойно слушал, как поносят человека, который отнесся к нему с редкой сердечностью; когда же Уикс в свою очередь отпускал неприязненные замечания по адресу Хейуорда, Филип выходил из себя.
— Уж больно ваш новый приятель смахивает на поэта, — сказал Уикс, насмешливо кривя рот, запавший от забот и огорчений.
— Он и есть поэт.
— Это он вам сказал? У нас в Америке его назвали бы ярко выраженным бездельником.
— Ну, мы не в Америке, — холодно заметил Филип.
— Сколько ему лет? Двадцать пять? А у него только и дела, что переезжать из одного пансиона в другой и кропать стишки.
— Вы же его не знаете, — гневно возразил Филип.
— Нет, знаю: я уже видел сто сорок семь таких, как он.
Глаза Уикса смеялись, но Филип, не понимавший американского юмора, недовольно надул губы. Уикс казался ему пожилым, хотя на самом деле американцу лишь недавно исполнилось тридцать. Он был высок, очень худ и сутулился, как человек, привыкший сидеть над книгами; большая и некрасивая голова с редкими соломенными волосами и землистым цветом лица, тонкие губы, длинный острый нос и выпуклый лоб придавали ему нескладный вид. Холодный и педантичный, словно в жилах у него текла не кровь, а вода, и чуждый страстей, он иногда проявлял удивительное озорство, приводившее в замешательство серьезных людей, среди которых он постоянно вращался. В Гейдельберге он изучал теологию, но остальные студенты-теологи его национальности относились к нему с опаской. Их пугало его свободомыслие, а его прихотливый юмор вызывал их осуждение.
— Где же вы могли видеть сто сорок семь таких, как он? — серьезно спросил Филип.
— Я встречал их в Латинском квартале в Париже и в пансионах Берлина и Мюнхена. Они живут в маленьких гостиницах в Перуджии и Ассизи. Их то и дело видишь у картин Боттичелли во Флоренции; они сидят на всех скамьях Сикстинской капеллы в Риме. В Италии они пьют слишком много вина, а в Германии — чересчур много пива. Они всегда восхищаются тем, чем принято восхищаться — что бы это ни было, — и на днях собираются написать великое произведение. Подумать только — сто сорок семь великих произведений покоятся в душе ста сорока семи великих мужей, но трагедия заключается в том, что ни одно из этих ста сорока семи великих произведений никогда не будет написано. И на свете от этого ничего не меняется.
Уикс говорил серьезно, но к концу этой длинной речи его серые глаза смеялись; Филип понял, что американец над ним потешается, и покраснел.
— Вы мелете ужасный вздор, — сказал он сердито.
27
Уикс занимал две маленькие комнаты в задней части дома фрау Эрлин; одна из них служила гостиной и годилась для приема посетителей. После ужина он нередко приглашал к себе поболтать Филипа и Хейуорда; его толкало на это озорство, приводившее в отчаяние его друзей в Кембридже (штат Массачусетс). Он принимал обоих молодых людей с изысканной любезностью и усаживал их в самые удобные кресла. Сам он не пил, но с предупредительностью, в которой Филип чувствовал иронию, ставил возле Хейуорда парочку бутылок пива и упорно зажигал ему спички всякий раз, когда у того в пылу спора гасла трубка. В начале знакомства Хейуорд — воспитанник знаменитого университета в Кембридже — относился к Уиксу, окончившему всего-навсего Гарвардский университет, покровительственно; однажды, когда разговор коснулся греческой трагедии — предмета, в котором Хейуорд считал себя знатоком, — он принял важный вид и заговорил поучающим тоном. Уикс скромно его выслушал, вежливо улыбаясь; потом задал один или два безобидных на первый взгляд, но коварных вопроса; Хейуорд ответил смаху, не заметив расставленной ловушки; Уикс учтиво возразил, потом внес фактическую поправку, привел цитату из малоизвестного латинского комментария, сослался на один из немецких авторитетов — и выяснилось, что он человек глубоко сведущий в этом вопросе. Со спокойной улыбкой, словно извиняясь, он не оставил камня на камне от рассуждений Хейуорда и с утонченной вежливостью доказал его дилетантизм. Он издевался над своим собеседником с мягкой иронией, и Филипу поневоле пришлось признать, что Хейуорд остался в дураках, а у того не хватило здравого смысла смолчать: выйдя из себя, но не утратив самонадеянности, он пытался продолжать спор и понес страшную дичь, Уикс дружелюбно стал его поправлять; Хейуорд цеплялся за ошибочные суждения, а Уикс доказывал их бессмысленность. Наконец Уикс признался, что преподавал в Гарварде греческую литературу. Хейуорд презрительно рассмеялся.
— Так я и думал, — сказал он. — Поэтому вы и читаете греков, как школяр. А я — как поэт.
— И вы считаете, что греческая литература становится более поэтичной, если не понимать ее смысла? А я-то думал, что только в апокалипсисе неточное толкование подчас улучшает смысл.
В конце концов, допив пиво, Хейуорд покинул комнату Уикса разгоряченный и растрепанный; сердито махнув рукой, он сказал Филипу:
— Этот тип — просто педант. Он ничего не смыслит в прекрасном. Точность украшает только конторщика. Важно постичь дух древних греков. Уикс похож на оболтуса, который пошел на концерт Рубинштейна, а потом жаловался, что тот берет фальшивые ноты. Фальшивые ноты! Какое это имеет значение, если он играет божественно?
Филипу, не знавшему, сколько невежд утешало себя этими фальшивыми нотами, слова Хейуорда показались вполне убедительными.
Хейуорд никак не мог удержаться от попытки вернуть потерянные позиции, и Уикс без труда вовлекал его в спор. И, хотя Хейуорд не мог не видеть, как ничтожны его знания по сравнению с ученостью американца, его английская твердолобость и болезненное тщеславие (что, может быть, одно и то же) не позволяли ему отказаться от борьбы. Хейуорду, казалось, нравится демонстрировать свою безграмотность, самомнение и упрямство. Когда он изрекал какую-нибудь несуразность, Уикс кратко доказывал ошибочность его рассуждений, делал небольшую паузу, чтобы насладиться победой, а затем спешил перейти к другой теме, словно христианское милосердие повелевало ему щадить поверженного противника. Иногда Филип пытался вставить словечко, чтобы выручить друга; Уикс легко его обивал, но отвечал очень мягко, совсем не так, как Хейуорду, — даже Филип со своей болезненной обидчивостью не мог почувствовать себя задетым. Временами Хейуорд, сознавая, что все чаще и чаще остается в дураках, терял спокойствие; тогда он говорил грубости, и только неизменная вежливость американца не давала превратить спор в открытую ссору. Покинув комнату Уикса, Хейуорд ворчал сквозь зубы:
— Проклятый янки!
Он верил, что последнее слово осталось за ним. Это был лучший ответ на все неопровержимые доводы противника.
Хотя беседы в маленькой комнате Уикса начинались с самых разнообразных предметов, в конечном счете они всегда переходили на религию, для студента-теолога она представляла профессиональный интерес, а Хейуорд был рад всякой теме, которая не требовала знания грубых фактов; когда мерилом служит чувство, вам наплевать на логику, и это очень удобно, если вы не в ладах с логикой. Хейуорду трудно было изложить Филипу свой символ веры без помощи целого потока слов; выяснилось, однако, что он воспитан в духе законной англиканской церкви (так же, как, впрочем, и Филип). Правда, Хейуорда все еще привлекал католицизм, хотя он и отказался от мысли перейти в эту веру. Он не переставал его восхвалять, сравнивая пышные католические обряды с простыми богослужениями протестантов. Он дал прочесть Филипу «Апологию» Ньюмена, и хотя Филип нашел ее прескучной, но все-таки дочитал до конца.
— Читайте эту книгу ради стиля, а не ради содержания, — сказал Хейуорд.
Он восторгался музыкой ораторианцев[18] и высказывал остроумные догадки о связи между набожностью и ладаном. Уикс слушал его с ледяной улыбкой.