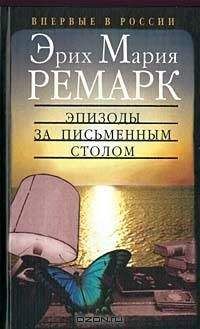Эрих Ремарк - Тени в раю
— Карл наверняка ее знает.
— Но мне не хотелось бы, чтобы ее сейчас исполняли. Это было последнее, что я слышал перед тем, как нацисты заняли Австрию. Потом пошли только марши.
Наташа на минуту задумалась.
— Арию из «Графа Люксембурга» Карл непременно будет повторять. Если хотите, я попрошу, чтобы он этого не делал.
— Он ведь ее только что спел.
— Когда я здесь, он исполняет ее по нескольку раз.
— Но мы ведь уже были здесь. А этой арии я не слышал.
— Тогда у него был свободный вечер и играл кто-то другой.
— Я слушаю это с таким же удовольствием, как и вы.
— Правда? Это не вызывает у вас печальных воспоминаний?
— Видите ли, многое зависит от индивидуального восприятия. В конце концов, все воспоминания печальны, ибо они связаны с прошлым.
Она принялась рассматривать меня.
— Не пора ли снова выпить «Русской тройки»?
— Непременно. — Теперь я стал рассматривать Наташу. Она не обладала трагической красотой Кармен, но лицо ее отличалось удивительной живостью глаза ее то искрились озорным, мгновенно рождающимся, агрессивным юмором, то вдруг становились мечтательно-нежными.
— Что это вы так уставились? — Она испытующе посмотрела на меня. — У меня что, нос блестит?
— Нет. Я только подумал: почему вы так дружелюбно относитесь к официантам и пианистам и так агрессивны к своим друзьям.
— Потому что официанты беззащитны. — Она снова посмотрела на меня. — Я действительно очень агрессивна? Или это вы излишне впечатлительны?
— Да. Вероятно, я чрезмерно впечатлителен.
Она рассмеялась.
— Вы сами не верите тому, что говорите. Никто не считает себя излишне впечатлительным. Признайтесь, не верите?
— Отчасти все же верю.
Карл вторично запел арию из «Графа Люксембурга».
— Я вас предупреждала, — шепнула Наташа.
Вошли несколько человек и кивнули ей. И раньше уже кое-кто с ней здоровался. Она знала здесь многих — это я уже заметил. Затем двое мужчин подошли к столику и заговорили с ней. Я стоял рядом, и у меня вдруг возникло ощущение, какое бывает, когда самолет попадает в воздушную яму. Почва уходила из-под ног, все рушилось и плыло у меня перед глазами зелено-голубые полосатые стены, бесчисленные лица и проклятая музыка, все раскачивалось, будто я внезапно потерял равновесие. Тут дело было не в водке и не в гуляше — гуляш был отличный, а водки я выпил слишком мало. Вероятно, со злостью думал я, виной тому воспоминание о Вене и моем покойном отце, не успевшем вовремя бежать.
Мой взгляд упал на рояль и на Карла Инвальда, я видел его пальцы, бегавшие по клавишам, но ничего не слышал. Потом все стало на свое место. Я сделал глубокий вдох — у меня было такое чувство, будто я вернулся из далекого путешествия.
— Здесь стало слишком людно, — сказала Наташа. — В это время как раз кончаются спектакли. Пойдем?
Театры закрываются, думал я, и ночные рестораны заполняют в полночь миллионеры и сутенеры, идет война, а я где-то посредине. Это была вздорная и несправедливая мысль, ибо многие посетители были в военной форме, и наверняка не все они — тыловые крысы; безусловно, здесь находились и отпускники с фронта. Но сейчас мне было не до справедливости. Меня душила бессильная ярость.
Здороваясь и обмениваясь улыбками со знакомыми, мы прошли по узкому проходу, где находились туалет и гардероб, и выбрались наружу. Улица дышала теплом и влагой. У входа выстроились в ряд такси. Швейцар распахнул дверцу одной из машин.
— Не нужно такси, — сказала Наташа. — Я живу рядом.
Улица стала темнее. Мы подошли к ее дому. Она потянулась, как кошка.
— Люблю такие ночные разговоры обо всем и ни о чем, — сказала она. Все, что я вам наговорила, разумеется, неправда.
Яркий свет уличного фонаря упал на ее лицо.
— Конечно, — подтвердил я, все еще кипя от бессильной злобы, вызванной жалостью к себе.
Я обнял ее и поцеловал, ожидая, что она с гневом оттолкнет меня.
Но этого не произошло. Она только посмотрела на меня странным, спокойным взглядом, постояла немного и молча вошла в дом.
XII
Я вернулся от адвоката. Бетти Штейн дала мне сто долларов для уплаты первого взноса. Глядя на часы с кукушкой, я пытался торговаться, но адвокат, чуждый каких бы то ни было сантиментов, был тверд, как алмаз. Я дошел до того, что даже рассказал ему кое-что из своей жизни в последние годы. Я знал, что многое ему уже известно — во всяком случае все необходимое для продления моего вида на жительство. И тем не менее мне казалось, что некоторые детали могут настроить его более благожелательно. Пятьсот долларов для меня — огромная сумма.
— Поплачьтесь ему в жилетку, — посоветовала мне Бетти. — А вдруг поможет. К тому же все, что вы рассказываете, — чистая правда.
Но ничего у меня не вышло. Адвокат сказал, что он уже и так пошел мне навстречу, ибо его обычный гонорар намного выше. Не помогли и ссылки на судьбу эмигранта, лишенного всяких средств к существованию. Адвокат просто рассмеялся мне в лицо.
— Таких эмигрантов, как вы, в Америку ежегодно приезжает более ста пятидесяти тысяч. Здесь вы отнюдь не являетесь трогательным исключением. Что вы хотите? Вы здоровы, сильны, молоды. Так начинали все наши миллионеры. И, насколько я могу судить, вы уже прошли стадию мойщика посуды. Ваше положение не так уж плохо. Знаете, что действительно плохо? Плохо быть бедным, старым, больным и плохо быть евреем в Германии! Вот это плохо. А теперь прощайте! У меня есть дела поважнее. Не забудьте точно в срок уплатить следующий взнос!
Хорошо еще, что он не потребовал дополнительного гонорара за то, что выслушал меня.
Я плелся по городу, окутанному утренней дымкой. Сквозь блестящие, прозрачные облака просвечивало солнце. Свежим блеском отливали автомобили, а Сентрал-парк был полон детского гомона. У Силверса я видел примерно такие пейзажи на фотографиях картин Пикассо, присланных из Парижа. Злость на адвоката мало-помалу улеглась, — пожалуй, теперь это была скорее досада на себя за ту жалкую роль, которую мне приходилось играть. Он видел меня насквозь и был по-своему прав. Не было у меня основания обижаться и на Бетти, посоветовавшую мне сделать этот шаг. В конце концов, я сам должен был решать, воспользоваться ее советом или нет.
Я шел мимо бассейна с морскими львами — они блестели в лучах теплого солнца, как полированные живые бронзовые скульптуры. Тигры, львы и гориллы находились в клетках под открытым небом. Они беспокойно метались взад и вперед, глядя на мир своими прозрачными берилловыми глазами, которые видели все и не видели ничего. Гориллы, играя, бросались банановой кожурой. Я не испытывал к ним ни малейшего сочувствия. Звери выглядели не голодными искателями добычи, которых мучают комары и болезни, а спокойными, сытыми рантье во время утреннего променада. Они были избавлены от страха и голода — главных движущих сил природы — и платили за это лишь монотонностью существования. Однако кто знает, кому что больше нравится. У зверей, как и у людей, есть свои привычки, с которыми они не желают расставаться, а от привычки до монотонности всего один шаг. Бунты бывают редко. Я невольно вспомнил о Наташе Петровой и о своей теории счастья в укромном уголке. Она отнюдь не была бунтаркой, а я подумал о счастье в укромном уголке лишь по контрасту: у нас обоих не было почвы под ногами; судьба бросала нас повсюду, лишь иногда мы делали остановку, чтобы перевести дух. Но разве не то же самое делают звери — только без лишнего шума?
Я уселся на террасе и заказал себе кофе. У меня было пятьсот долларов долгу, а капитала — сорок долларов. Но я был свободен, здоров и, как сказал адвокат, сделал первый шаг к тому, чтобы стать миллионером. Я выпил еще чашечку кофе и представил себе летнее утро в Люксембургском саду в Париже. Тогда я притворялся гуляющим, чтобы не привлекать к себе внимания полиции. Сегодня же я обратился к полицейскому с просьбой прикурить, и он дал мне огня. Думая о Люксембургском саде, я вспомнил арию из «Графа Люксембурга» в ресторане «Эль Марокко». Но тогда была ночь, а сейчас ясный и очень ветреный день. А днем все выглядит иначе.
— Где вас только носит? Вы пропадали целую вечность! — сказал Силверс.
— Чтобы заплатить адвокату, вряд ли требуется столько времени.
Я был поражен. Куда девались его светские манеры? Впрочем, его внешнему лоску я никогда особенно не доверял.
Сейчас в нем чувствовалась напряженность и нервозность, сгорбившись, он быстро шагал по комнатам. Даже в лице его что-то изменилось — мягкая, округлая плавность линий исчезла. Я вдруг увидел перед собой существо, готовящееся к нападению, что-то вроде ручного леопарда, узревшего дичь.
— Когда нечем платить, визиты могут быть и более продолжительными.
Силверс, казалось, не слышал.