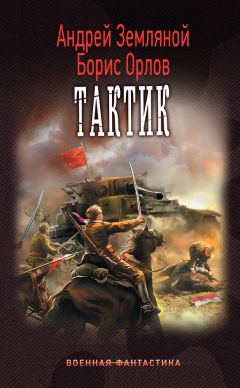Борис Кундрюцков - Казак Иван Ильич Гаморкин. Бесхитростные заметки о нем, кума его, Кондрата Евграфовича Кудрявова
— Со-тня-а!
Ну, и, конечно. Вот и все. Насчет остального прочаго, в другой раз, потому что будущее у нас малина — ври и не оглядайся.
Иван Гаморкин.
На конверте том стояла марка со слоном. А иде тот слон живет, в каких заморских странах обретается, — разве узнаешь. Ищи этого слона. Хоть и не маленький, хоть и издалека его видать, а не ухватишь — ровно ветер в поле…
Слег я. Заболел. За мной ухаживает друг мой и Ивана Ильича — Михал Александрович Петухой. Выскочит он на момент, на свою работу, пометет-пометет улицу свою, да и ко мне. Такой огорченный стал. Такой стал серьезный и озабоченный. Во все углы заглядывает, на меня не смотрит, — будто что-то потерял. Аспириной меня кормит, разными перамидонами и еще какой-то жидкостью мутноватого цвета. Может мне и вправду плохо. В больницу не пойду. Что-ж, все под Господом Богом ходим. Он-то все видит. Вышло значит распоряжение — убрать со свету белого казака, Кондрата Евграфовича Кудрявова.
Сейчас же это болезнь в меня, во все дырки и полезла. И там ковыряется и там, ищет в моем теле, — за что бы ей уцепиться, какой инструмент сломать.
Приходил даже ко мне вчера полковник Козьма Иванович.
— Слег? — говорит.
— Слег.
— Что же у тебя болит, Евграфович?
— А все болит! И тут-вот, и тут-вот, и тут-вот.
— Г-м… Печально.
— Очень печально, — соглашаюсь.
Посидел он подле меня часочек. Покурили мы, хоть кашель меня и душит. Петухой в сторону смотрит, нос трет.
— Ему умирать никак нельзя! Он о Гаморкине записывает.
— Что записывает? — переспросил его Козьма Иванович.
— Да это так, — сказал я, — баловство одно! Заметки нестоющие одни.
— Кроме заметок еще есть всякой всячины — лезет Петухой с печальной своей физиономией к полковнику.
— Какой? — спрашивает его Козьма Иванович.
— Разное. Сказки Гаморкина. История, и прочее, тому подобное.
Петухой старается. Вытащил мой сунду-чек, поднял крышку, вывалил бумаженки на пол этакой кучей. Их так много, что я за голову схватился. Эк сколько наворочено. Чистое удивление. И все это я?
— Когда же ты, Евграфович, успел все записать?
— Сам, говорю, не знаю. Ишь сколько бумаги-то перевел.
Петухой блаженствовал, перебирая мои листочки, и гордо усмехался.
— Он наш списатель… Казачий.
Тут я закашлялся и они меня оставили. Козьма Иванович пообещался еще прийти навестить, а Петухой побежал на свою улицу посмотреть, не насорил ли кто, и не напакостила ли лошадь, ненароком.
Из пекарни мне было видно, а из своего окошка — не видать.
Каморка у нас — подвал. Со стен течет. Этак ладонью провести — воды столько, хоть морду мой.
Ох, грехи-грехи!
За наши грехи, а может еще за что.
Где то ты, друг мой сердечный, Иван Ильич, Настасья Петровна, семья моя и первая моя любовь — Левантина Федоровна (учительница наша хуторская).
Не хотел писать, а вырвалось. А когда-то было-было на ней не женился.
Было это после пятого года, когда я глаз потерял.
Пришли мы к ней свататься: Я и Гаморкин. Сидим все трое.
— Так что, барышня, — говорит Ильич и, ухмыляясь, смотрит на меня, изредка кивая головой в мою сторону, — сей казак непорочной станицы и прекрасного роду-племени.
В окна, как сейчас помню, врывается целыми снопами огненных лучей, солнце. Окна открыты и со степи Донской ветерок подувает. Горячий такой и страственный. Хороший денек.
Учителька опустила голову, слушает Гаморкина, ножку на ножку забросила, покачивает носочком — дразнится. Свежа и прекрасна.
Гляжу, помню это я на нее, глаз не спускаю. Приковала она мой взор этой своей ножкой.
Господи, думаю, ну что ей на чужих хлебах болтаться без толку. Горбом деньги зарабатывать, молодость свою чудесную губить. Полюбила бы меня, перебралась бы ко мне в курень, зажили бы с ней по казачьи в счастьи великом. Без хлопот и без забот. Господи, думаю, внуши, ей, вразуми. Наставь на путь правильный.
Хороша она была, очень хороша. Волосы каштановые — густые, глаза зеленые — большущии, ресницы черные, к верху концами загибаются — лба достают, а рот… не рот, а скважинка. Этакой малиной на личике пристроился. Висит эта малина и не вянет.
Да ее бы съесть!
Сахар! Да, о чем, бишь, я?
Говорит Гаморкин.
— Он — казак Кудрявов, пай имеет — шестнадцать десятин, да арендных у него шестьдесят четыре, да куренек недавно поставил, да две кухни, зимнюю и летнюю во дворе соорудил, да…
И перечисляя, загибает пальцы на обоих руках, чтобы не сбиться. А она ножку на ножку забросила, покачивает носочком, слушает.
— Богатый он, казак. Глаза нет. Так это в пятом году на усмирение под Бахмут ходили мы с ним. Камнем его кто-то ахнул. И как этот камень ему в мозг не залез — удивительно. Но… родился он с двумя. С двумя родился, барышня. Вот ей-ей, с места мине не сдвинуться, как говорит Петухой, и водой обтекти.
Если же вас повязка смущает, так это совсем напрасно. Ну, и кто теперь не подвязывается? Одним ремнем штаны, скажем…
Левонтина Федоровна поморщилась отче-то-то.
— Другие зубы при боли, третьи — нос л… всякие там вещи, все, так сказать, в свое время. А детки у него могут пойти глазастые. Ежели принять во внимание ваши распрекрасные глаза.
О, Иван Ильич Гаморкин!
Он прямо смаковал все подробности, входя все более и более в роль свата, которую на себя принял, искренно надеясь мне помочь.
— Ну, вот гляньте, барышня, на него. Какой он нескладный. Нос — клювом. А ваш нос, да его нос и выйдет — настоящий непорочный нос. Ни клюв, ни пуговка и ни… башмак. Ну, что, не правду ли я говорю?
У учительницы забегали в глазах искры скрытого смеха, но наружно, она его не показывала.
— Гляньте, — говорил Гаморкин, — рот у него? Это-ж пасть. Тигриная пасть. Таким ртом верблюда съесть, — раз плюнуть. А ваш, ежели; ваш, напоминающий ягодку, — гаргуга.
Тут я посмотрел на Ивана Ильича, с тру дом оторвавшись от созерцания Левантины Федоровны. Меня поразило слово — „гаргуга". Слышал я его в первый раз. Да и учительница тоже, так как ея глаза стали внимательными и чуть-чуть грустными. Иван Ильич был красный, надутый и потный. Вытерая платком лоб, он отрывисто кидал:
— А грудь у него. А ноги. А за…
— Довольно, Иван Ильич! — встала при" этих словах учительница, будто кто ее шилом уколол невзначай.
— Благодарю за честь. Может я и под-стать Кондрату Евграфовичу (поклон в мою сторону), для его будущего потомства, но… я замуж не собираюсь. Хочу пожить молодой.
— А после? — затаив дыхание, помню, спросил я.
— Что после?
— Когда захотиться и вы соберетесь?
— Ха-ха-ха-ха, — засмеялась Левантина Федоровна, — когда мне захочется? Н-не знаю. Там видно будет.
— Да што там, — гудел авторитетно Гаморкин, не обращая внимания на ея жестокие для моего сердца слова. — Што там… Венчайтесь, да и черт с вами. Нечего колотыриться. Вот мы с Настасьей Петровной, толи дело… Пошли прогуляться в воскресенье, зашли, ненароком, в церковь свечку поставить, подмигнул я попу, а он — хлоп и обвенчал.
Тут Гаморкин, на свадьбе которого я присутствовал, и как все было знаю, прикусил язык, встретившись с моим взглядом. Но духом не упал, а еще ожесточенней принялся нападать.
— Он пай имеет шестнадцать десятин. Шесть в одном месте, а десять за песками, возля кургана.
— Спасибо, спасибо. Слышала уж. Спасибо, — отступала учительница.
— Верное его слово, — говорил я, прижимая папаху к груди, — верное его слово. И про пай — верно все.
— Да верю я вам. С чего вы взяли, что я не верю. Верю, но… не хочу.
— Не хотишь?
— Нет.
— Так-таки и не хотишь? — недоверчиво переспрашивал Иван Ильич, не веря своим собственным ушам, и уставившись на нее так, будто бы впервые разглядывал и шаловливые завитки каштановых волос, и, как море„зеленые глаза, и розовый подбородок.
— Не хочу.
Она прошла по комнате и подошла к двери. Дверь вела в ее каморку.
Дело происходило в школе. Мы были в: классной комнате.
Учительница в нашей хуторской школе была иностранкой, из Тульской губернии.
— Так у него барышня, — вставая и двигаясь за нею, рассказывал Гаморкин, зимняя и летняя кухни. Скажем, летом — жарко у нас, в Донской Области, сейчас вы все кострюльки и сковородки, и лаханки в летнюю кухню из зимней перенесли и пошел у вас на воздухе дым коромыслом-пугачем. Там скварчит, там шипит, там попыхивает. Левантина Федоровна, ей-же-ей. Целый день сабе готовите всякую снедь, никто вам не мешает.
Но учительница, задержавшись на пороге, обернулась к нам и сказала.
— Да вы смеетесь что-ли надо мной? Чего мы будем торговаться даром. Нет и нет. Какие вы, право!
— Нет. Какое же право? Право — у вас все. Одно право только — это ваше! Вы во всем курене хозяйка. А в летней кухне и стиркой заняться можно. Белья у него много. Стирай сабе только, наслаждайся, да вару подбавляй. Ишь, хорошо, знатно. А тут ещег скажем, прибежит к вам посанёнок-сыночек ваш — пол-Левантины, пол-Кондрашки. У него-то: обои глаза, нос непорочный, и рот. Рот не рот, а ягодка…