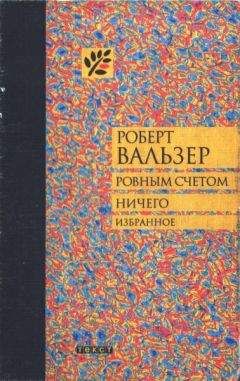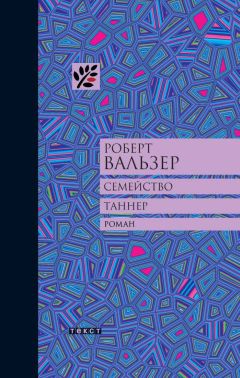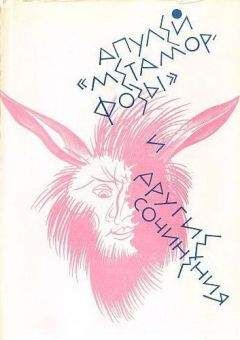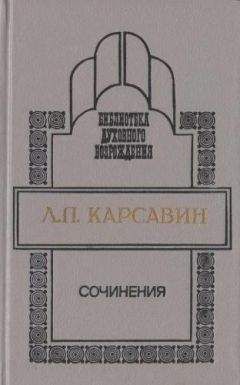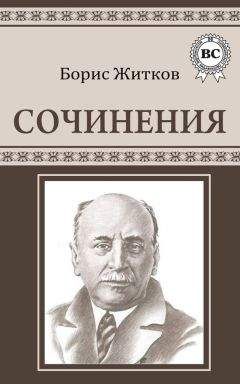Роберт Вальзер - Сочинения Фрица Кохера и другие этюды
Овация
Представь себе, дорогой читатель, эту прекрасную, эту волшебную механику: актриса, певица или балерина, воздействуя своим мастерством на сидящую в театре публику, приводит ее в такой бурный восторг, что та приводит в движение ладони, и зал разражается громом аплодисментов. Представь себе, что тебя самого захватило всеобщее неудержимое желание принести благодарность блестящему исполнению. С затемненной, битком набитой галерки срывается лавина восторженных криков, и на головы людей, стоящих на сцене, дождем низвергаются цветы. Часть из них артистка поднимает с пола и со счастливой улыбкой прижимает к губам. Успех, как облако, возносит ее на недосягаемую высоту, и счастливица посылает публике, словно малому, милому и послушному ребенку, воздушный поцелуй и жест благодарности.
И публика, это большое и все же малое дитя, снова и снова радуется умильной гримасе, как умеют радоваться только дети. Рокот нарастает, и вот уже в зале бушует шторм аплодисментов, потом он немного стихает, чтобы тут же разразиться с новой силой. Представь себе, читатель, это золотое, если не бриллиантовое, настроение всеобщего ликования, эту явно божественную дымку, заволакивающую зал. На сцену летят венки и букеты; и какой-то романтик, стоящий у самого края сцены, не сводит влюбленных глаз с драгоценных ножек балерины в ажурных чулочках. Может быть, это известный ее поклонник, барон, и, может быть, он как раз в эту минуту, движимый благородным порывом, пытается сунуть под ножку своей обожаемой девочки банкноту достоинством в тысячу марок. «Ну ты, лопух, прибереги свои сокровища!» С этими словами девочка наклоняется, подбирает банкноту и, презрительно усмехнувшись, бросает ее обратно, дарителю, каковой чуть не сгорает от стыда. Представь, читатель, эту и подобные ей картины, вообрази звуки оркестра и признай со всей откровенностью, что овация — это нечто великолепное. Щеки пылают, глаза сверкают, сердца трепещут, души свободно воспаряют ввысь, наполняя зал благоуханием. Рабочий сцены вынужден снова и снова прилежно поднимать и опускать занавес, и она снова и снова должна выходить на поклоны, эта женщина, сумевшая покорить себе весь бушующий зал. Наконец воцаряется тишина, и можно доигрывать пьесу до конца.
«Добрый день, великанша!»[13]
Когда ранним утром, прежде чем начнут ходить трамваи, ты выходишь в город по неотложному делу, столица кажется тебе лохматой великаншей. Она только что проснулась, встряхнула кудрями, высунула из-под одеяла ногу и выпростала холодные белые руки улиц. Ты спешишь к ней, потирая замерзшие ладони, а из домов все выходят и выходят люди, словно огромное нетерпеливое чудовище извергает из дверей и подворотен свою теплую огненную слюну. Ты ловишь случайные взгляды прохожих, девичьи и мужские, хмурые и веселые, слышишь шаги позади и впереди тебя, и сам включаешься в этот ритм своими собственными глазами, теми же взглядами. В груди каждого прячется какая-то сонная тайна, в головах бродит какая-то тоскливая или беспокойная мысль. Чудесно, чудесно. Погода холодная, то солнечная, то пасмурная, много, много людей еще нежится в постелях до девяти, десяти или одиннадцати утра. Неисправимые мечтатели ночью бодрствовали и колобродили. Аристократы, привыкшие вставать поздно, всю ночь кутили. Ленивые собаки двадцать раз просыпались, зевали во всю пасть и снова принимались храпеть. Старики и лежачие больные вообще не вставали — или встали с великим трудом. Женщины занимались любовью. Художники говорили себе: Вставать рано? Какой вздор! Дети богатых, преуспевающих родителей, сказочно холеные и оберегаемые существа, смотрели сладкие сны и блаженно посапывали в своих детских комнатах, за белоснежными занавесками. А те, что в столь ранний час вылезают и расползаются, как муравьи, по дикому лабиринту этих впадающих друг в друга улиц, — кто они? Может быть, если не маляры, то наверняка обойщики, стряпчие, коммивояжеры, торгующие разной дрянью и мелочью. Есть среди них люди, спешащие на ранние поезда, отправляющиеся в Вену, Мюнхен, Париж или Гамбург, есть девушки, работающие по найму в самых разных заведениях. То есть труженики. Глядя на эту публику, ты обязательно ощутишь свою к ней причастность. Как будто ты тоже обязан идти в ногу, бежать, задыхаться, размахивать в такт руками. Эта муравьиная спешка заразительна почти так же, как заразительна обаятельная улыбка. Впрочем, нет, не так. Раннее утро кое-чем отличается. Например, оно вышвыривает из пивных каких-то замызганных личностей, чьи физиономии в красных пятнах помады являют разительный контраст с ослепительно белыми, будто напудренными улицами. На некоторое время они замирают у дверей, держа свою трость на плече и тупо глазея на прохожих. Пьяная ночь все еще тлеет в их грязных глазах. Мимо, мимо. Наше голубоглазое чудо, наше раннее утро недолюбливает пьяных. У него есть тысяча мерцающих нитей, чтобы увлечь тебя, тысяча приемов, чтобы подтолкнуть сзади и с улыбкой поманить за собой. Погляди вверх, где затянутое белесой дымкой небо выпускает несколько разорванных клочков лазури; оглянись, провожая взглядом заинтересовавшего тебя незнакомца; обрати внимание на богатые резные ворота, за которыми огорченно и аристократично высится какой-то княжеский дворец. Статуи кивают тебе из садов и парков, а ты идешь и идешь, скользя взглядом мимо всего, что движется и недвижно стоит вокруг. Лениво плетутся в толпе извозчики. Трамваи уже начали ходить, и кто-то из пассажиров успевает посмотреть на тебя свысока. Вот дурацкий шлем на голове полицейского. Вот субъект в драных башмаках и штанах. Вот какой-то дворник метет улицу в старой шубе и цилиндре (явно бывший богач). Все попадает в поле твоего зрения. А сам ты для всего этого — лишь мимолетный предмет наблюдения. В том-то и состоит чудо города, что положение и поведение каждого тонет в поведении тысяч прочих, что наблюдение — мимолетно, суждение — предвзято, забвение разумеется само собой. Все мимо. Что именно — мимо? Какой-то фасад в стиле ампир? Где? Там, позади? Да разве у тебя хватит смелости, чтобы обернуться и лишний раз взглянуть на архитектурный шедевр? Куда там. Мимо, мимо. Грудь столицы-великанши вздымается, теперь °она облачила свои пышные телеса в пронизанный солнцем мерцающий пеньюар. Вообще-то она одевается довольно медленно. Зато каждое ее величественное движение сопровождается выделением запаха и пара, стуками и звонами. Мимо тебя с грохотом проезжают фиакры с американскими чемоданами на крыше, ты идешь теперь в парк. Тихие каналы еще покрыты серым льдом, газоны примерзают к твоим подошвам; тонкие, стройные, голые деревья выглядят такими продрогшими, что ты торопишься прочь; кто-то катит тачки, кто-то (верно, какое-то официальное лицо) едет в двух роскошных каретах (по два кучера и одному лакею на каждую). То и дело что-то попадается тебе на глаза, и пока ты пытаешься это что-то рассмотреть, оно исчезает. За время своего часового марша ты, конечно, прокрутил в голове огромное множество мыслей (если ты поэт). Так что можешь не размахивать руками, а смело держать их в карманах твоего, надеюсь, приличного пальто. А может быть, ты художник и во время утренней прогулки успел написать пять или шесть картин. А если ты аристократ, герой, укротитель львов, социалист, исследователь Африки, танцор, гимнаст или хозяин пивной, то ты, возможно, еще спишь и видишь во сне, как тебе уделяет получасовую аудиенцию император и ведет с тобой доверительную беседу, в которой позволено принять участие ее величеству императрице. Мысленно ты проехался на электричке, сорвал лавровый венок с головы Дернбурга, женился, обосновался в небольшом швейцарском городке и сочинил драму, которую сразу же поставили на сцене. Забавно. Забавно. Движемся дальше. Что там? Неужто это… Ну, так и есть. Это твой коллега Китч. Вы с ним отправились домой и выпили шоколаду.
Ашингер[14]
Одно светлое, будьте добры! Бармен знает меня уже довольно давно. Я критически смотрю на полную кружку, беру ее двумя пальцами за ручку и небрежно несу к одному из круглых столов, где предусмотрительно разложены вилки, ножи, булочки, стоит уксус и оливковое масло. Аккуратно поставив запотевшую кружку на фетровую подставку, я размышляю, взять ли мне в буфете еду или нет. Мысль о еде влечет меня к барышне в бело-голубую полоску. Она заведует нарезками. Барышня набирает мне целую тарелку разных бутербродов, и я, обогащенный этой грудой съестного, с достоинством возвращаюсь на свое место. Ни вилкой, ни ножом я не пользуюсь, только ложечкой для горчицы, с ее помощью я придаю своим бутербродам коричневый оттенок, после чего преспокойно отправляю их в рот. Приправы способствуют душевному равновесию. Еще одно светлое, будьте добры. У Ашингера принят доверительный тон обращения к персоналу. Возьмите там пару раз еду или выпивку, и через некоторое время вы заговорите почти так же, как Вассман в Немецком театре. Со второй или третьей кружкой в руке вы испытаете непреодолимую потребность провести разного рода наблюдения. Вам захочется со всей достоверностью описать, как едят берлинцы. Они едят стоя, но при этом ничуть не торопятся. Не верьте, что в Берлине все спешат, шипят и бегут рысцой. Это сказки. Здесь знают толк в приятном препровождении времени, все мы люди, все человеки. Вы только взгляните, как дотошно здесь выбирают булочки с сосиской или итальянские салаты. Одно удовольствие смотреть на эту процедуру. А как неспешно они выуживают деньги из жилетных карманов! Хотя в большинстве случаев речь идет о монете достоинством в один грош. Вот я свернул козью ножку и прикуриваю от газовой горелки под зеленым стеклом. Как хорошо я изучил это стекло и латунную цепочку, на которой оно крепится. У Ашингера всегда полно народу, дверь не закрывается, желающие подкрепиться входят, сытые выходят. Умирающие с голоду сразу устремляются к живительному источнику пива и груде теплых сосисок, а сытые выскакивают на свежий воздух и бегут по делам: портфель под мышкой, письмо в кармане, поручение в голове, рабочий график в печенках, часы на ладони, пора, пора, пора. В круглой башне в центре зала восседает королева, повелительница сосисок и картофельного салата. Она немного скучает в своем поварском окружении. В заведение входит элегантная дама и двумя пальчиками цепляет булочку с икрой. Я тут же делаю стойку, но так, будто вовсе не жажду ее внимания. Я тем временем уже успел ухватиться за очередную кружку светлого. Дама немного стесняется вонзать зубки в икорное роскошество, а я, разумеется, сразу представляю себя на месте этого бутерброда, вызывающего у нее такой неодолимый, почти непристойный аппетит. Человеку свойственно предаваться иллюзиям.