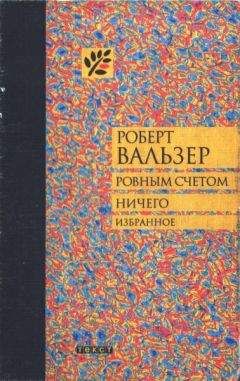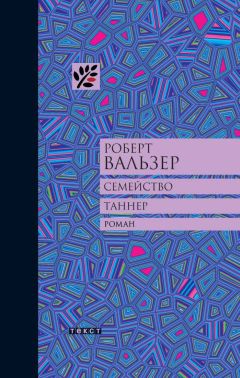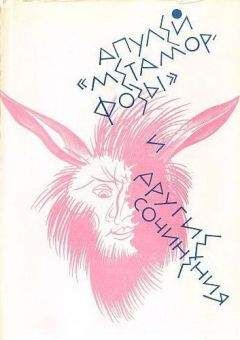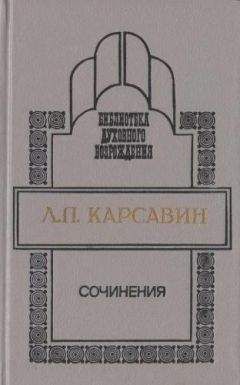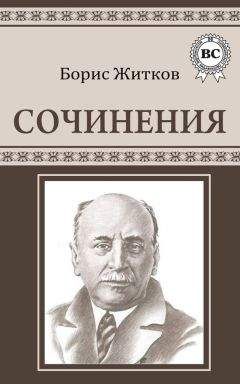Роберт Вальзер - Сочинения Фрица Кохера и другие этюды
А как они умеют нежно взглянуть, эти деревенские бабы, какую скорчить странную невинную рожицу, как игриво оглянуться и отвернуться. Рынок всегда вызывает у жителей городского квартала ностальгию по деревне, как бы для того, чтобы подорвать монотонное городское высокомерие. Как красиво смотрятся на свежем воздухе все выставленные на продажу предметы. Мальчишки покупают теплые сочные колбаски, просят обмазать их вдоль и поперек горчицей и таким образом поглощают по всем правилам искусства. Под этими высокими синими небесами вкусно поесть — самое милое дело. Пышные пучки цветной капусты выглядят восхитительно. Я сравнил бы их с тугими полушариями женской груди. Если мое сравнение кому-то обидно, значит, оно неудачно. Тут вокруг меня столько женщин. А рынок, видимо, скоро закрывается. Пора сворачивать торговлю: сгребать в ящики фрукты, заворачивать селедку и шпроты, разбирать палатки. Суета угомонилась, толпа рассеялась. Прощайте, краски, прощай, всякая всячина. Прощай, летний дождик звуков, ароматов, движений, шагов и огней. Между прочим, я разорился на полфунта грецких орехов и могу двигать домой, в свою квартиру, где орут мои детки-почемучки. Я и вообще-то существо всеядное, но когда разгрызаю орех, то просто счастлив.
Званый ужин
О, выход в свет — дело непростое. Одеваешься настолько прилично, насколько позволяют скромные условия твоего прозябания, и отправляешься по указанному адресу. Лакей открывает парадную дверь. Парадная дверь? Какое-то фельетонное словечко, но мне нравится принятый в таких случаях ритуал. Я всеми силами стараюсь соблюдать хороший тон: снимаю пальто и шляпу, приглаживаю перед зеркалом и без того прилизанные волосы, устремляюсь прямо к хозяйке дома, чтобы поцеловать ей руку, но по дороге отвергаю эту мысль и довольствуюсь глубоким (?) поклоном. Глубокий или не глубокий, но церемония уже затянула меня, во мне проснулся светский кураж, и я упражняюсь в интонациях и жестах, которые кажутся мне наиболее подходящими к этим огням и цветам. «Прошу к столу, дети», — восклицает хозяйка. Я уже готов закричать «ура» и нестись сломя голову, но быстро соображаю, что так вести себя нельзя. И перехожу на шепот, то есть на медленный аллюр, спокойный, гордый, скромный, непритязательный, терпеливый, улыбчивый, благопристойный. Получается превосходно. Накрытый стол смотрится восхитительно. Рассаживаемся. Кому-то достаются места рядом с дамой. Или без таковой. Я разглядываю сервировку и в глубине души нахожу ее отличной. Хорошо бы позаимствовать из нее некоторые мелочи. Такому, как я, они бы пригодились. Слава Богу, я человек скромный. Я благодарю и принимаюсь за еду: орудую вилкой, ножом и ложкой. Здоровому человеку столь изощренно приготовленные блюда кажутся изумительно вкусными, а эти столовые приборы, как они сверкают, а бокалы так прямо благоухают, а цветы! Как радушно они приветствуют меня своим лепетом. А теперь вот и я сам лепечу что-то. Завожу довольно непринужденный разговор и расхожусь настолько, что диву даюсь. Не ожидал я от себя столь светского поведения. Поглощаю такую пищу и одновременно веду оживленную беседу. И откуда что взялось? По мере того как на стол подаются все новые блюда и вина, лица гостей все более приобретают пурпурный оттенок. Казалось бы, все сыты, пора и честь знать. Ан нет, трапеза продолжается, главным образом из соображений хорошего тона. Полагается благодарить и есть дальше. Отсутствие аппетита за таким богатым столом, да это смертный грех. Я заливаю все больше жидкого куражу в свою, казалось бы, вечно жаждущую глотку. Это поднимает настроение. А тут еще лакей разливает пенный восторг из толстых бутылок в пузатые бокалы, где благородная влага может покоиться и сверкать, как в красивых морских бассейнах. А теперь дамы и господа произносят тосты в честь друг друга, я им подражаю, я прирожденный подражатель. Ибо все, что есть в обществе деликатного и любезного, зиждется на беспрерывном подражании, разве не так? Подражатели, как правило, везучие ребята, вроде меня. Я на самом деле вполне счастлив, раз могу быть и пристойным, и незаметным. Теперь во мне оживает легкое остроумие, язык развязывается, того и гляди, ляпну что-то такое беззаботное, бесшабашное. Так выпьем, господа! Да здравствует… Как глупо. Но красота и богатство всегда немножечко глупы. Есть люди, которые, целуясь, не могут удержаться от смеха. Счастье — это дитя, которому сегодня, слава Богу, не нужно идти в школу. Бокалы снова и снова наполняются. И то, что налито как бы невидимой рукой призрака, опрокидывается в глотки гостей. Я тоже самым вульгарным образом опрокидываю бокал за бокалом. Но серебряные крылья благопристойности шелестят вокруг меня и хлопают по щекам, чтобы не забывался. Зато вино и красивые женщины обязывают к легким, утонченным дерзостям. Извинением служит вишневый торт, его как раз сейчас галантно подают на стол. О, как все это меня восхищает. Я же пролетарий. Моя красная рожа — истинное лицо едока. Аристократы, они тоже едят, разве не так? В аристократы лезть глупо. А выпить и закусить всем охота, может, это и есть особый хороший тон. Может, когда тебе хорошо, ты и ведешь себя самым приличным образом. Это я так, к слову. Что? Еще сыр? И опять фрукты, и снова целое море шампанского? Ну вот, пора встать из-за стола, осторожно стрельнуть у кого-нибудь сигару, пройтись по комнатам. Вот это обстановка, высший шик. В очаровательных маленьких нишах можно непринужденно расположиться рядом с дамами. А потом, чтобы не потерять форму, быстрыми шагами подскочить к столикам с ликерами и снова воспарить на облаках наслаждения. Похоже, хозяин дома уже хорош. Этого достаточно, чтобы чувствовать себя избранником фортуны. И если язык еще ворочается, можно остроумно и небрежно побеседовать с дамами. Прикуривая все новые сигареты, гости заводят новые знакомства, дружески хлопают друг друга по лбу, короче, кругом слышится громкий глупый добродушный смех, все хороши и довольны. Нет ничего более возбуждающего. Ты привыкаешь к этой раскованности, приобретаешь осанистую медлительность и, не слишком обременяя себя соблюдением хорошего тона, вращаешься в блестящем кругу светских людей. И тихо радуешься такому своему счастью. Вот ведь как высоко можно подняться в жизни. Потом желаешь всем спокойной ночи. На прощанье насильно суешь в руку лакея чаевые. В известном смысле он их честно заработал.
Фридрихштрассе
Вверху узкая полоска неба, внизу гладкая, будто отполированная судьбами, мостовая. Дома по обе стороны улицы смело, легко и фантастично устремляются в архитектурную высоту. Воздух трепещет от страха перед суетой жизни. К домам до самых крыш липнут рекламы, рекламные призывы парят над крышами. Огромные буквы бросаются в глаза. И всегда здесь снуют люди. На этой улице жизнь не останавливается никогда. Здесь бьется сердце, вздымается грудь столичной жизни. Здесь тяжело дышать, словно сама жизнь на каждом шагу с трудом переводит дыхание. Здесь источник, ручей, река и море движений. Движение и возбуждение не умирает здесь никогда, и, если в истоке улицы жизнь почти прекращается, она начинается снова в ее устье. Работа и развлечение, порок и добродетель, целеустремленность и праздность, благородство и подлость, любовь и ненависть, идеализм и цинизм, пестрота и простота, бедность и богатство мерцают, сверкают, дурачатся, грезят, спешат и спотыкаются, сталкиваются и теснят друг друга в диком и одновременно бессильном круговращении. Здесь нерасторжимые узы укрощают и усмиряют страсти, бесчисленные соблазны влекут к искушениям, самоотверженность дружески окликает удовлетворенное вожделение, а ненасытность с горящими глазами ловит мудрый взгляд непритязательности. Здесь разверзаются пропасти, здесь царят и правят бал неописуемые противоречия, вплоть до того, что откровенная непристойность не оскорбляет разумного человека. Мимо человеческих тел, голов и рук, совсем рядом, проносятся экипажи. В полых внутренностях и на крышах омнибусов, тесно прижимаясь и подчиняясь друг другу, сидят люди. Сидят наверху, сидят внутри, теснятся, сжимаются, скукоживаются, лишь бы ехать. Для любой глупости здесь мгновенно находится убедительное обоснование. Любое сумасбродство здесь облагораживается и освящается ссылкой на очевидные тяготы жизни. Любое движение имеет смысл, любой звук имеет практическую причину. Каждая улыбка, каждый жест, каждое слово излучает обаятельную корректность и степенное одобрение. Не странно ли? Здесь одобряют все, потому что в тугом узле уличного движения каждый его участник вынужден без размышлений одобрять все, что видит и слышит. Похоже, ни у кого нет охоты осуждать, ни у кого нет времени отвергать. Да никто и не имеет права на недовольство, ибо все здесь чувствуют себя при исполнении долга, необременительного, так сказать, опрятного, способствующего продвижению вперед. Это и есть самое великолепное. Каждый нищий, мошенник, преступник здесь человек, как и все прочие. И поскольку все движется, толкается и напирает, их приходится иногда терпеть, как и всех прочих. Ах, здесь родина всех недостойных, маленьких людей, совсем маленьких, которые где-то когда-то уже лишились чести. Здесь к ним относятся терпимо, именно потому, что здесь не место нетерпимости и недовольству. Здесь солнце сияет для всех, как в сказке о добрых феях, молочных реках и кисельных берегах, и можно мирно гулять, как на далеком тихом альпийском лугу, или фланировать в свете фонарей. Людской поток течет по тротуарам в обоих направлениях неудержимо и непрерывно, словно полноводная, мерцающая степенная река. Здесь скрываются мучения, замалчиваются раны, унимаются грезы, усмиряются страсти, подавляются радости, умеряются желания, ибо все и вся требует осторожности, осторожности и еще раз любезной и уважительной осторожности. Там, где человек оказывается так близко к человеку, понятие «ближний» действительно обретает привычное, понятное, быстро улавливаемое значение. Тут уж никому не придет в голову оглушительно хохотать, поспешно удовлетворять свои срочные личные нужды или торопливо улаживать дела. И все же какая захватывающая, одуряющая спешка таится в этой кажущейся стесненности и сдержанности. Солнце освещает здесь столько голов, дождь увлажняет эту благословенную землю, на которой разыгралось столько фарсов и трагедий. А вечерами, когда начинает смеркаться и зажигаются фонари, ах! медленно поднимается занавес, и снова можно смотреть все тот же спектакль с теми же нравами, скабрезностями и приключениями. Сирена по имени удовольствие исторгает небесные звуки соблазна, и душа, полная вибрирующих вожделений, рвется на части. И тогда начинается такое швыряние деньгами, которому нет разумного объяснения. Скромная фантазия поэта не в силах вообразить столь безудержное мотовство. На улицу выходит мечта во плоти и дышит так призывно и сладострастно, что все и вся бежит, бежит, бежит на нетвердых ногах за своей главной мечтой.