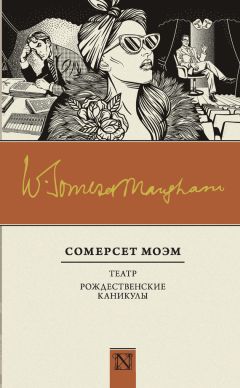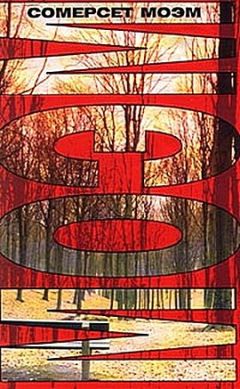Сомерсет Моэм - Рождественские каникулы
— Зачем так говорить, ведь вы, как и я, уверены, что он убил?
— Ты пойдешь против него?
— С чего вы взяли? Зачем, по-вашему, я уничтожила деньги? Вы, видно, совсем потеряли голову, вообразили, что полиция их не найдет. Да разве опытный сыщик упустит такое подходящее для тайничка место?
Пальцы мадам Берже, впившиеся в руку Лидии, разжались. Выражение лица ее изменилось, она громко всхлипнула. Потом вдруг обняла Лидию, прижала к груди.
— Бедное мое дитя, какую беду, какое несчастье я навлекла на тебя.
Впервые мадам Берже дала волю чувствам при Лидии. Впервые обнаружила, что способна любить нерасчетливо, бескорыстно. Тяжкие, мучительные рыдания сотрясали ее, она отчаянно припала к Лидии. Лидия была глубоко тронута. Страшно было видеть, как эта сдержанная, гордая женщина с железной волей потеряла самообладание.
— Ни за что нельзя было позволить ему жениться на тебе, — рыдая, говорила она. — Это было преступно. Нечестно по отношению к тебе. Но мне казалось, только это может его спасти. Ни за что, ни за что, ни за что не должна была я это допустить.
— Но я его любила.
— Знаю. Но простишь ли ты его когда-нибудь? Простишь ли меня? Я его мать, я люблю его несмотря ни на что, а твоя любовь разве может выдержать такое?
Лидия вырвалась из объятий свекрови, схватила ее за плечи. Встряхнула.
— Послушайте меня. Я полюбила не на месяц и не на год. Я полюбила навсегда. Его единственного я полюбила. И никого другого уже не полюблю. Что бы он ни сделал, что бы ни ждало нас в будущем, я его люблю. Ничто не заставит меня любить его меньше. Я его обожаю.
Назавтра вечерние газеты сообщили, что за убийство Тедди Джордана арестован Робер Берже.
Несколько недель спустя Лидия узнала, что ждет ребенка, и с ужасом поняла, что зачала в ту самую ночь, ночь зверского убийства.
* * *За столиком, где сидели Лидия и Чарли, воцарилось молчание. Они давно уже отужинали, все остальные посетители ушли. Чарли, который слушал Лидию без единого слова, поглощенный ее рассказом как никогда и ничем в жизни, все-таки сознавал, что ресторан опустел, а официанты жаждут от них избавиться, и раза два чуть не сказал Лидии, что им пора уходить. Но нелегко это было, она говорила, словно в трансе, и хотя их взгляды временами встречались, у него было жутковатое ощущение, что она его не видит. А потом вошла компания американцев, трое мужчин и три девицы, и спросили, не слишком ли поздно, накормят ли их. Предвидя выгодный заказ, так как компания была очень веселая, patronne[10] заверила американцев, что повар здесь ее супруг, и если они не прочь обождать, он состряпает все, что они пожелают. Они заказали коктейли с шампанским. Они заявились сюда, чтобы приятно провести время, и ресторанчик наполнился их беззаботным смехом. Но трагический рассказ Лидии, казалось, окружил столик, за которым она сидела с Чарли, таинственной и зловещей дымкой, и приподнятое настроение веселой компании не проникало сквозь нее; Лидия и Чарли сидели в уголке одни, словно огражденные невидимой стеной.
— И вы все еще его любите? — спросил наконец Чарли.
— Всем сердцем.
С такой страстной искренностью она ответила, что не поверить он не мог. Удивительно это было, Чарли даже растерянно поежился. Казалось, Лидия — существо совсем иной человеческой породы. Это неистовство чувств пугало Чарли, и неуютно ему стало с нею. Ощущение возникло такое, словно он проболтал с кем-то час-другой и вдруг понял, что разговаривает с привидением. Но одно не давало Чарли покоя. Мысль эта не шла у него из головы последние двадцать четыре часа, однако ему не хотелось, чтобы Лидия сочла его блюстителем нравов, и до сих пор он молчал.
— Не могу взять в толк, как же при этом вы можете быть в таком месте, как Serail. Разве нельзя было найти какой-то иной способ зарабатывать на жизнь?
— С легкостью.
— Тогда я не понимаю.
— После суда все были очень добры ко мне. Я могла стать продавщицей в одном большом магазине. Я хорошая швея, была в учении у портнихи, могла бы получить работу по этой части. Нашелся даже человек, который хотел на мне жениться, если я разведусь с Робером.
Казалось, что тут еще скажешь, и Чарли молчал. Лидия поставила локти на стол, покрытый скатертью в красную и белую клетку, уперлась подбородком в ладони. Чарли сидел напротив нее; долгим, задумчивым взглядом, который, казалось, проникал в самые глубины его существа, Лидия смотрела ему в глаза.
— Я искала искупления.
Чарли уставился на нее, ничего не понимая. Чуть слышно произнесенные слова эти его потрясли. Никогда еще он ничего подобного не испытывал — будто вдруг разодрали пелену, которая придавала миру знакомые приятные краски, и он заглянул в сотрясаемую корчами тьму.
— Бога ради, что вы хотите этим сказать?
— Хотя я люблю Робера всем сердцем, всей душой, я знаю, он согрешил. Я чувствовала, только тем я и могу ему послужить, что подвергну себя унижению, самому чудовищному из всех, какие могла себе представить. Сперва я решила пойти в какой-нибудь публичный дом, где бывают солдаты, рабочие и всякие отбросы большого города, но побоялась, что стану жалеть этих несчастных, ведь поспешные и редкие посещения этих мест — единственное удовольствие в их ужасной жизни. А посетители Serail — богатые, праздные развратники. К тем скотам, которые покупают там мое тело, я не могу испытывать ничего, кроме ненависти и презрения. Там мое унижение, точно гноящаяся незаживающая рана. Из-за грубой непристойности одежд, которые я вынуждена носить, меня жжет стыд, к нему не привыкаешь. Я радуюсь страданию. Радуюсь презренью, с каким мужчины относятся к тому, что служит их похоти. Радуюсь их скотству. Я в аду, как и Робер, мои страдания соединяются с его страданиями, и, быть может, мои страдания помогают ему переносить те, что выпали на его долю.
— Но он-то страдает, потому что совершил преступление. А вы и так настрадались, хотя ни в чем не виноваты. Чего же подвергать себя излишнему страданию?
— За грех надо платить страданием. Где вам с вашей холодной английской натурой понять, что такое любовь, которая и есть моя жизнь? Я принадлежу Роберу, а он — мне. Если бы я не решилась разделить его страдания, я была бы так же отвратительна, как его преступление. Я знаю, чтобы искупить его грех, мне так же необходимо страдать, как ему.
Чарли засомневался. Он не был глубоко верующим человеком. Его воспитали в вере в Бога, но не в мыслях о нем. Думать о Боге — ну, это не то что дурной тон, но некая крайность. Ему трудно сейчас было разобраться в своих мыслях, но казалось чуть ли не естественным высказывать самые неестественные суждения.
— Ваш муж совершил преступление и за это наказан. Смею сказать, это справедливо. Но нельзя же думать, что… что всемилостивый Бог требует, чтобы вы расплачивались за чьи-то злодеяния.
— Бог? При чем тут Бог? По-вашему, я могу видеть, в каких мучениях живет огромное большинство людей, и верить в Бога? По-вашему, я верю в Бога, который допустил, чтобы большевики убили моего несчастного простодушного отца? Знаете, что я думаю? Я думаю, Бог мертв уже миллионы миллионов лет. Я думаю, он умер, когда объял бесконечность и положил начало образованию Вселенной, он умер, а люди из века в век продолжают взывать к нему, который перестал существовать, когда сотворил то, что сделало возможным их существование.
— Но если вы не верите в Бога, я не вижу смысла в том, что вы делаете. Я мог бы это понять, если бы вы верили в жестокого Бога, который требует око за око и зуб за зуб. Если Бога нет, такое искупление, на какое вы решились, теряет всякий смысл.
— Вам так кажется, да? Нет в моем поведении логики. Нет смысла. И однако, в самой глубине моего сердца, нет, больше того, всеми фибрами своей души я знаю, что должна искупить грех Робера. Знаю, только через это он освободится от владеющего им зла. Я не прошу вас считать меня разумной. Прошу лишь понять, что ничего не могу с собой поделать. Я верю, что как-то — сама не знаю как — мое унижение, поругание, жестокая, непрестанная боль омоет, очистит его душу, и даже если мы никогда больше не увидимся, он будет мне возвращен.
Чарли вздохнул. Все это было ему странно, странно, и чуждо, и приводило в замешательство. Не понимал он, как с этим быть. Сейчас ему было особенно не по себе с этой чужой женщиной, одержимой безумными фантазиями; а ведь на вид она такая заурядная, смазливенькая, неважно одетая; ее можно принять за машинистку или работницу почты. А у Терри-Мейсонов сейчас как раз, наверно, начинаются танцы; все в бумажных колпаках, которые им достались за праздничным столом. Кое-кто из молодых людей под мухой, но, черт возьми, на Рождество это не зазорно. А сколько будет поцелуев под омелой, сколько шуток, розыгрышей, смеха; все веселятся в свое удовольствие. Казалось, это так далеко, но, слава Богу, оно есть, оно существует, нормальное, достойное, разумное поведение, а не этот кошмар. Кошмар? А может быть, все-таки эта женщина с ее трагической историей, с ее ужасной жизнью была не так уж не права, когда сказала, что Господь, сотворив наш мир, умер, может быть, он покоится мертвый где-то на горном хребте какой-нибудь погасшей звезды или его поглотила Вселенная, им созданная? Забавно это, если подумать о леди Терри-Мейсон, которая рождественским утром собирает всех гостей и ведет в церковь. И его, Чарли, отец ее поддерживает. «Не стану уверять, будто я очень уж часто хожу в церковь, но на Рождество это, по-моему, необходимо. Я хочу сказать, мы тем самым подаем хороший пример». Так, наверно, он бы сказал.