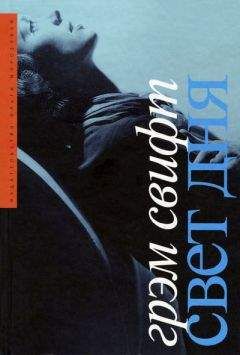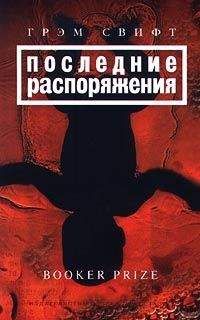Свифт Грэм - Свет дня
Улица застроена жилыми домами (а тюрьма – вот она, рядом). До конца, налево, потом направо. И сразу магазины, транспорт, люди. «Сейфуэй», «Аргос», «Маркс энд Спенсер». Вспышки солнца на стеклах машин. У света медно-красный оттенок. Лица прохожих – как трассирующие снаряды.
Закусочная полна народу. Входишь точно в машинное отделение. Шипит и фырчит кофейный автомат, повторяются скороговоркой заказы. Время ланча. Шаркающая очередь – передо мной шестеро или семеро, но я не досадую.
Это новое во мне сейчас: не досадую на задержки. Могу ждать. Нетерпеливостью больше не страдаю. Проволочки, очереди, пробки, отсрочки – ничего страшного. Побывал на кладбище, купил сандвич...
Стоишь в очереди – можешь наблюдать, приглядываться. Стоишь в очереди – думаешь обо всех других очередях, в которых мог бы оказаться, обо всех ужасных шаркающих очередях. Так или иначе, бывает ли жизнь, которая наполовину не состояла бы из ожидания? Жизнь, не продырявленная тут и там пустотами? «Время терпит». «Не суетись». Быстро хорошо не будет – ни в готовке, ни в остальном. Хотя за этим прилавком они ох как шустрят.
Помимо прочего – детективу без этого никуда. Если не умеешь дождаться, выждать...
Здесь меня уже, конечно, знают. Завсегдатай. Раз в две недели как штык. Иногда еще заезжаю просто оставить передачу. Одежда, одно, другое, что они там разрешают. Служба доставки.
Вот и прилавок. Мне кивают, узнали. Способны ли догадаться, зачем я тут бываю, – другой вопрос.
Этот? С конвертом под мышкой? Он только-только с кладбища, там стоял у могилы убитого человека. Теперь хочет увидеться с женщиной, которая его убила. В промежутке ест сандвич и пьет капучино.
Сандвич с курицей, зеленью и обжаренным красным перцем. Хозяева – испанцы. Сара умеет по-ихнему. «Ланчетерий». Старое доброе испанское словцо.
Есть свободное место – табуретка у окна. Кафе «Рио». Интернациональный мир.
Как она переживет этот день? Полвторого. Представляю себе надгробие – красноватый свет, искрящийся гранит. Могила, к которой год теперь никто не придет.
Минут через двадцать двинусь обратно и встану в другую очередь.
39
«Сааб» тронулся с места. Я за ним ярдах в тридцати. Когда он повернул на оживленную Фулем-роуд, я уменьшил дистанцию и чуть не врезался ему в бампер – так боялся упустить.
В темное время суток непросто следовать за машиной. Отстанешь – видишь только задние огни, а они у всех одинаковые.
С другой стороны – трудней, конечно, понять, что тебе пристроились в хвост. Приходило ли им вообще такое в голову?
Лилли-роуд... Потом по Фулем-Пэлис-роуд до Хаммерсмита. Потом шоссе А4 и автострада М4 – обычный путь в аэропорт Хитроу. Пять тридцать: густой и медленный поток машин в сторону Хаммерсмита, и, значит, я могу держаться близко. Часто так близко, что вижу их затылки.
А как насчет чтения их мыслей? Если они решили вместе дать дёру – наверняка это скажется, наверняка будет какой-то пульс, какая-то вибрация в них обоих, заметная даже по положению голов. Если же намерены распрощаться...
Фулем-Пэлис-роуд. Мимо больницы Чаринг-Кросс, где он работает. Где осматривает женщин.
И будет работать дальше? Повернул ли он в ту сторону голову, невольно, пусть даже на секунду, или заставил себя смотреть только вперед?
Когда следуешь за кем-то, а он не знает, трудно не почувствовать трепет власти. Как будто можешь решать их судьбу. Твоя подошва над семенящим жуком.
Таинственное побуждение оберегать.
Кольцевая развязка у Хаммерсмита. Они свернули налево на А4. Там поток убыстрился, и держаться близко стало труднее. Но он не торопился, ехал в медленном ряду—два ровных красных огня. Ехал не так, как если бы ему не терпелось оказаться далеко.
Думаю, я знал уже тогда. Она улетала. Она улетала от него. Есть вещи, которые выводишь, высчитываешь головой, есть – которые знаешь нутром. Он сказал Саре правду. У него щелкают последние безвозвратные минуты.
А4, потом М4.
И все же, и все же. Он сидел за рулем, машина была в его власти, все было в его власти. Приближался поворот на Хитроу, и тут-то он мог выкинуть какой-нибудь сумасшедший номер. Мог внезапно газануть. Выжать педаль до отказа, выйти за все границы, лишь бы не дать ей улететь.
Последняя безумная надежда. Его надежда? Или моя? Он про это думал, я про это думал – бывший полицейский, который в свое время полгода проработал на угонах. Ладно, сынок, если любишь с ветерком... Не слежка – погоня (не потому ли в полиции, на самом-то деле?). Под конец – просто охота, беззаконие охоты.
Лицо Дайсона, когда мне пришлось ему сказать, что я превысил полномочия.
А Кристина возвращается – если возвращается – туда, где идет игра без всяких правил.
Три съезда с автострады перед Хитроу, не считая поворота к четвертому терминалу. Возможности стремительно тают, минуты щелкают. Потом громадный аэропорт всосет тебя и охватит, как сеть.
Он держался медленного ряда – того, с которого можно повернуть к первым трем терминалам.
И все же, и все же. Что-то еще может произойти, в последний момент они могут развернуться. Нельзя забывать и про план «Б»: что пройдут регистрацию вместе, как намеревались с самого начала. Предъявят посадочные талоны, и привет. Потому-то он и едет так ровно, так спокойно.
Съехали с автострады, движемся к аэропорту. Рев низко летящего лайнера.
Я знал нутром, что они расстанутся. По туннелю под взлетно-посадочными полосами черный «сааб» ехал мрачно и торжественно, точно катафалк. Точно назад пути уже не было.
Умом я, должно быть, радовался. Но нутро жаждало одного – оказаться неправым.
40
Приходя на свидание в тюрьму, словно бы репетируешь посадку. Пробуешь на вкус, что такое наказание. За тобой захлопываются двери. Система и ее запах поглощают тебя. Тебя обыскивают, отсчитывают и отмечают. Краем сознания начинаешь сомневаться, что тебя выпустят. Потом, когда твое время заканчивается, происходит маленькое чудо. Можешь, оказывается, выйти на волю. Делаешь тот простой шаг, что для живущих здесь совсем не прост, а то и немыслим.
Может быть, через это всем надо пройти. Опыт, привилегия. Знать, что это такое – покинуть мир и вернуться.
Встаю в очередь у входа. Через дорогу – новенький «центр посещений», но он еще не открылся, так что мы ежимся на улице, как бездомные.
Знакомые лица. Всякий раз есть и дети, дети без мам, под присмотром кого-то еще. Кивки, мимолетные улыбки. В целом, если не считать детей, мы народ неразговорчивый. Мы не друг с другом пришли повидаться, и если создается впечатление, что мы какая-то особая группа избранных, то это впечатление обманчиво.
Над нами высится кирпичная стена. Кто-то горбится, кто-то переминается с ноги на ногу – невтерпеж оказаться в тюрьме. Но пока мы дрожим в тени, кирпичная кладка наверху румяно сияет, как корка свежеиспеченного хлеба. Солнцу это тоже трудности не составляет – этот простой шаг, который вовсе не прост. Оно легко может перемахнуть через тюремную стену.
Привилегия избранных. Все шаркающие очереди.
Для меня это привилегия в самом что ни на есть прямом смысле. Драгоценнейшие минуты жизни. Так и хочется сказать, когда выпускают отсюда: «А можно остаться? Это обязательно – уходить? Я бы с удовольствием тут поселился, был бы предлог. Нельзя ли что-нибудь на меня навесить?»
Есть, правда, закавыка: тюрьма женская. Как ни старайся, ничего не получится.
Пять минут четвертого. Пора. Отпирают. Медленно продвигаемся вперед, и хотя они высматривают новые, незнакомые лица, мой желудок, как всегда, перекручивает узлом. Как будто меня могут остановить, как будто меня ждут хмурый взгляд, выставленный палец, отгоняющий взмах. Нет, не вы. Вам сегодня нельзя.
Желудок схватило и не отпускает. Но, как всегда, не забываю наполнить легкие. Это превратилось в ритуал, в суеверие, в необходимое условие. Как ныряльщик. Порция свободного воздуха.
Как будто я могу удерживать этот воздух, пока миную все двери, пока прохожу все проверки и обыски, пока в помещении для свиданий наши губы не соединятся.
Как будто нам разрешено целовать друг друга в губы...
Надзирательницы здороваются: «Привет, Джордж». Вещи надо оставить в шкафчике. Карманы вывернуть. Похоже на старые времена, на полицейский участок. Никаких бумажников, ключей, бумажных денег, сигарет. Заглядывают в рот, в ботинки. Иногда приводят собак.
Меня обыскивают быстро, скорей ради проформы, не дотрагиваясь до определенных мест. Шутки про эротический массаж – для нас пройденный этап, но могу точно сказать, что запах секса – секса без секса – примешивается к запаху любой тюрьмы.
Хотя здесь он не бывает таким сильным, как в мужских тюрьмах. Здесь – парфюмерное амбре в дни свиданий. Принарядиться и все такое. В меру возможностей.
Вроде моих клиенток – по крайней мере некоторых. Сигнальные волны аромата. Рита сперва оценивает женщин обонянием, потом взглядом, потом впускает ко мне. И никуда не деться от вопросов, которых вслух не задаешь, но (они это знают) задаешь мысленно и порой – порой на удивление быстро – получаешь ответы.