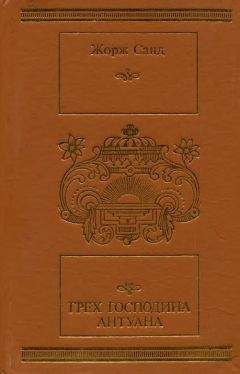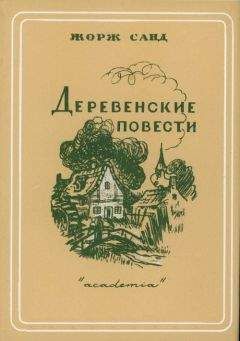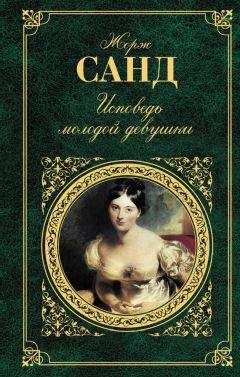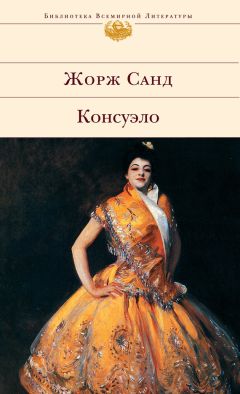Жорж Санд - Жак
Что мне делать? Я вижу, что мое счастье с каждым днем уходит все дальше, и не знаю, как его остановить. Несомненно, я опротивела Жаку, и произошло это по моей вине, а он передо мной ни в чем не виноват; но и за собой я не вижу никаких проступков, не знаю, в чем провинилась перед ним, Мы взаимно причиняем друг другу боль, словно по воле злого рока. Может быть, Жак не умеет подойти ко мне. Он слишком серьезен, строг, молчалив, когда принимает какие-либо решения. Мне кажется, что и в самих этих решениях и в быстроте, с которой он разрубает узел возникающих между нами столкновений, есть какое-то высокомерное презрение ко мне. Гораздо лучше действовали бы на меня слова ласковой укоризны, слезы, пролитые вместе. Жак слишком совершенное существо, меня это пугает; у него нет недостатков, нет дурных черт; он всегда одинаков — спокойный, ровный, рассудительный, справедливый. Право, думается, что он недоступен слабостям природы человеческой и готов терпеть их в других лишь благодаря своему молчаливому и мужественному великодушию; он не желает объясняться, вступать в переговоры. Не слишком ли много тут гордости? Ведь я еще ребенок, меня нужно вести за руку, поднимать, если я упаду. Да, ты права, Клеманс; я начинаю думать, что по складу характера Жак недостаточно молод для меня. Вот откуда придет мое несчастье; ведь за высокие совершенства я люблю Жака больше, чем любила бы молодого мужа, но его чрезмерная рассудительность, быть может, никогда не даст нам прийти к доброму согласию.
XXIX
От Жака — Сильвии
Я не изменил своего решения, ни разу не поддался нетерпению, не проявлял несправедливости, не действовал как супруг и повелитель, и все же зло совершилось и развивается так быстро, что если какое-либо постороннее обстоятельство не помешает этому, если в мыслях Фернанды не произойдет переворот, мы вскоре перестанем быть любовниками. Признаюсь, я страдаю. В мире есть только одно счастье — любовь, все остальное — пустяки, с которыми приходится мужественно мириться. Я примирюсь с чем угодно, я согласен удовлетвориться дружбой, я ни на что не буду жаловаться, но позволь мне поплакать у тебя на груди, пролить те горькие слезы, которых свет не увидит, а главное, не увидит Фернанда, ибо они увеличили бы ее скорбь. Шесть месяцев любви! Это очень мало, да еще сколько дней за последнее время было отравлено! Если на то воля Божья — да будет так. Я готов перенести все — и усталость и муки; но все же, повторяю, слишком скоро я утратил блаженство, которым надеялся наслаждаться гораздо дольше.
Но на что мне жаловаться? Я ведь хорошо знал, что Фернанда еще ребенок, что по возрасту и характеру у нее должны быть такие чувства и мысли, которых у меня уже нет; я знал, что не буду иметь ни права, ни желания вменять ей это в преступление. Я приготовился ко всему, что произошло. Я ошибся только в одном — в длительности нашей иллюзии. Первые восторги любви исполнены такой бурной силы и так высоки, что все препятствия отступают перед их могуществом, все зачатки разногласий цепенеют, все идет по воле этого чувства, которое с полным основанием называют душою мира и которое можно было бы сделать Богом вселенной; но когда любовь угасает, вновь обнажается уродливая житейская действительность, колеи дорог превращаются в канавы, бугорки вырастают высотою с гору. Мужественный путник, тебе надо одолевать тяжкий и опасный путь среди бесплодных скал, двигаясь до самого дня смерти. Счастлив тот, кто может надеяться на новую любовь. Бог долго благословлял меня, долго дарил мне способность исцелять свое сердце и находить ему обновление в этом божественном пламени; но мое время отошло, совершается последний оборот колеса; я больше не должен, не могу любить. Я думал, что эта последняя любовь согреет последние годы молодости моего сердца и продлит их. Я еще не отлюбил, я еще готов забыть эти бури; если Фернанда сможет успокоить свои волнения и сама исправит зло, которое она нам обоим принесла, я готов вернуться к радостям первых дней; но я не льщу себя надеждой, что в ее душе произойдет такое чудо, — она уже слишком много перестрадала. Вскоре она возненавидит свою любовь. Фернанда обратила ее в пытку, во власяницу, которую она носит во имя восторженной преданности. Но такие чувства для молодой женщины — химера; преданность убивает любовь и превращает ее в дружбу. Ну хорошо! Дружба нам останется, я приму ее дружбу и еще долго буду называть любовью свою дружбу, для того чтобы Фернанда не презирала ее. Свою любовь, последнюю свою любовь я набальзамирую в молчание, и мое сердце послужит ей вечной гробницей — оно уже не откроется для новой, живой любви. Я чувствую старческую усталость и холод смирения, сковывающий все мое существо. Одна лишь Фернанда может оживить его еще раз, ибо оно еще хранит тепло ее объятий. Но Фернанда дает угаснуть священному огню и засыпает в слезах; очаг охладевает, скоро пламя развеется дымом.
Ты даешь мне совет, которому последовать я не могу. Ты верно указала причину наших страданий, сказав, что мы не понимаем друг друга, но ты убеждаешь меня: добейся, чтоб она поняла, и не думаешь о том, что любовь доказывается иначе, чем все прочие чувства. Дружба покоится на фактах, ее доказывают услугами; уважение можно математически исчислить; любовь же исходит от Бога, к нему возвращается и вновь нисходит на нас по воле всемогущей нерукотворной силы. Почему ты не можешь добиться, чтобы Октав понял тебя? Да по тем же самым причинам, по которым Фернанда больше не понимает меня. Октав не мог достигнуть той степени восторга, когда любовь становится возвышенной и великой; Фернанда уже утратила ее. Подозрение помешало развиться любви Октава; некоторый эгоизм сковал любовь Фернанды. Как же ты хочешь, чтобы я доказал ей, что меня она должна любить больше, чем себя, и скрывать от меня свои страдания, как я скрываю свои муки? У меня хватает силы таить свою печаль и подавлять досаду; каждый день после одинокой минутной скорби я возвращаюсь к ней без всякого злопамятства, готовый все позабыть и ни единой жалобой не выдавать своих огорчений; но как она встречает меня? У нее заплаканные глаза, на сердце камень, на устах укор — не тот явный и грубый укор, который похож на оскорбление и сразу же исцелил бы меня и от любви и от дружбы, но укор деликатный, робкий, который наносит незаметную, но глубокую рану. Укор этот мне понятен, я чувствую его, он вонзается мне в самое сердце. Ах, какое это мученье для человека, который хотел бы ценою собственной жизни никогда не вызывать его, и в сокровенных тайниках души чувствует, что нисколько не заслужил упрека! А Фернанда, бедная девочка, страдает потому, что она слаба и поддается ничтожным огорчениям, хотя и чувствует, что напрасно унижает себя мелочами, ибо теряет в моих глазах свое достоинство. Страдает тогда ее гордость, а все мои усилия поднять ее дух, ободрить ее — напрасны: она их приписывает лишь моему великодушию и милосердию, а от этого печалится еще больше и чувствует себя униженной. Моя любовь теперь слишком сурова для нее, она считает себя обязанной вымаливать ее, она больше не понимает меня.
Недавно она бросилась к моим ногам, заклиная меня вернуть ей мою любовь. Мужа, считающего себя повелителем, быть может, растрогало бы такое доказательство покорности, но я был возмущен. Мне вспомнились бурные сцены, которые не раз приходилось мне переносить, когда женщины, которых я любил, потеряв мое уважение, тщетно пытались возродить мою любовь. Видеть Фернанду у ног своих! Такую святую, такую целомудренную и чистую! Нет, подобной любви мне не надо. Я не хочу вызывать у своей жены чувство, которое рабыня питает к своему господину! Мне показалось, что в этой страшной позе она отрекается от нашей прежней любви и обещает мне какое-то иное чувство. Она не поняла, какую боль причинила мне, и быть может, в душе упрекала меня в неблагодарности, раз я не оценил ее попытки утешить меня. Бедная Фернанда!
Ты советуешь, чтобы я вел себя с нею так же, как когда-то держался с тобой! Сильвия, да разве это я сделал тебя такою, какой ты стала теперь? Неужели ты думаешь, что человек способен вложить в другого человека силу и величие? Вспомни предание о Прометее, которого боги покарали не за то, что он создал человека, а за то, что дерзнул вдохнуть в него душу. У тебя душа была уже широкая и пылкая, когда я пролил в нее слабый свет своего рассудка и жизненного опыта; но я отнюдь не возносил тебя в небеса, я старался лишь просветить твой ум, направить к цели, достойной тебя, мощную силу твоих порывов и жар твоих добрых чувств, я лишь указал им верный путь; сам Бог дал твоей душе крылья, чтобы она возносилась к горным высотам. Ты была воспитана в пустыне, твой ум был так восприимчив и свеж, что открывался всем разумным мыслям; но этого было бы недостаточно, если б твое сердце не было подготовлено для тех чувств, о которых я говорил тебе; ты могла бы все понимать, но ничего не чувствовать. Словом, я не собирался вдохновлять, а только развивал тебя. Если б я этого не делал, ты, может быть, не научилась бы пользоваться дарованиями, которыми наделил тебя Бог; но, несомненно, они не пропали бы даром — во всех серьезных случаях жизни они сказались бы в твоем благородном и твердом поведении.